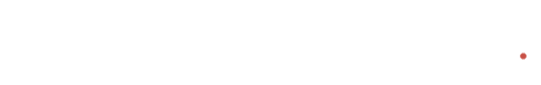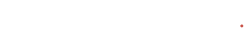Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Отправляя форму, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
«Доверие между бизнесом и университетом возникает через систему постоянных улучшений»
Интервью со старшим вице-президентом Банка ВТБ, руководителем ВТБ Образование, директором Высшей школы менеджмента СПбГУ Ольгой Дергуновой.
Проведя более 140 интервью с ректорами российских вузов, мы наблюдаем, что наибольшую остроту и актуальность в этих беседах приобрела тема взаимодействия университетов с индустриальными партнерами, с бизнесом, с теми компаниями-заказчиками, для которых они готовят специалистов, с которыми создают совместные образовательные программы и реализуют различные проекты.
Понимая, насколько это важная тема для вузовских управленцев, как много подразделений и сотрудников в нее вовлечено, мы решили запустить отдельный цикл интервью с топ-менеджерами крупного бизнеса, чтобы дать им возможность высказать свою позицию относительно этого сотрудничества, озвучить их реальные потребности и ожидания от работы с высшей школой.
В интервью с Ольгой Дергуновой мы поговорили о том, почему возникают разногласия между вузами и бизнесом, как ВШМ СПбГУ успешно строит отношения с работодателями и почему сегодня так важна системная, а не узкопрофильная подготовка студентов.
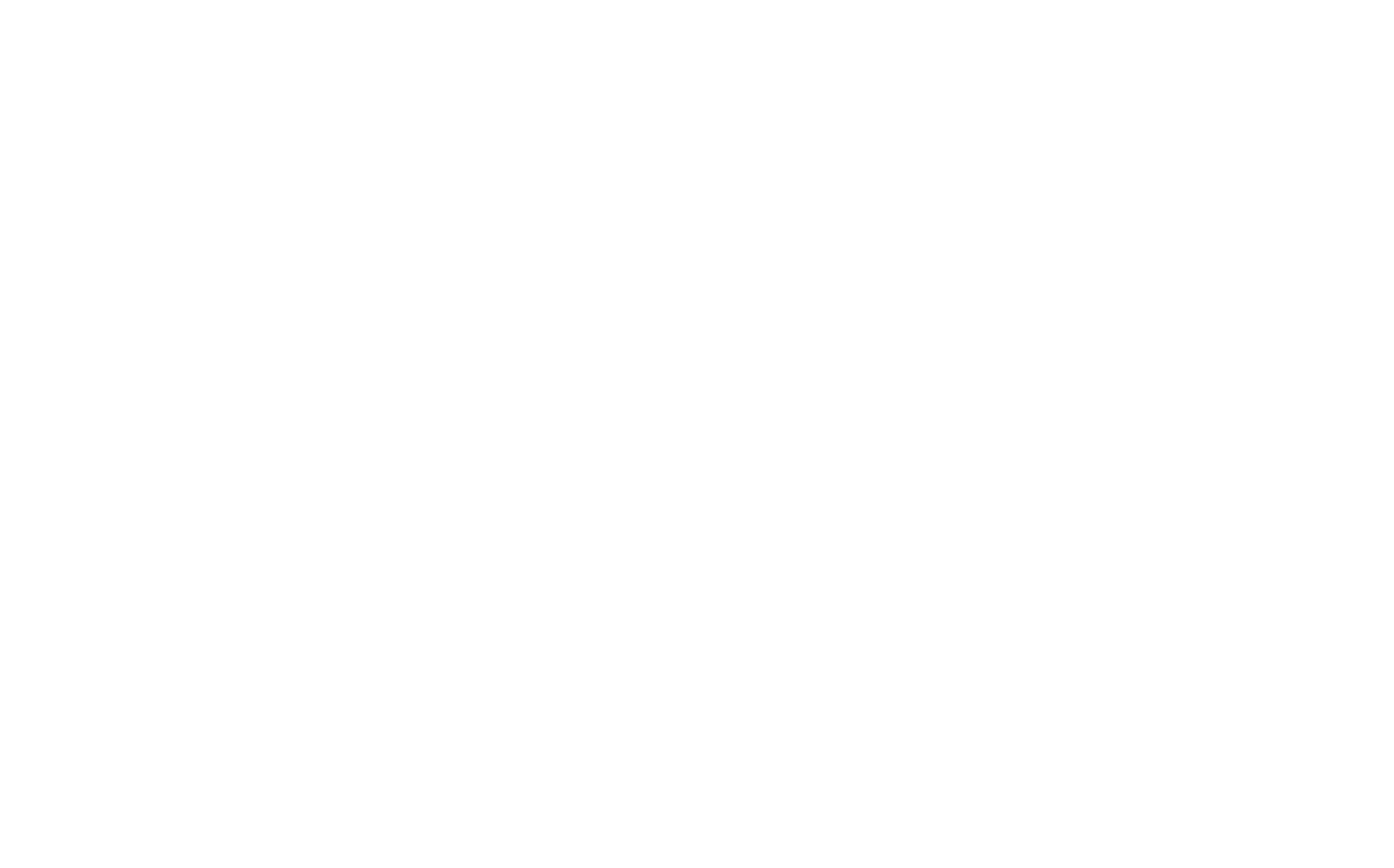
Справка о спикере:
Ольга Константиновна Дергунова: в 1996 г. была назначена генеральным директором российского отделения Microsoft, стала первой женщиной — руководителем представительства корпорации в мире. С 2004 года президент Microsoft в России и СНГ. С 2007 года — член правления Банка ВТБ. В 2019 г. возглавила Высшую школу менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ). The Wall Street Journal включила Ольгу Дергунову в число 25 наиболее успешных и влиятельных деловых женщин Европы.
Ольга Константиновна Дергунова: в 1996 г. была назначена генеральным директором российского отделения Microsoft, стала первой женщиной — руководителем представительства корпорации в мире. С 2004 года президент Microsoft в России и СНГ. С 2007 года — член правления Банка ВТБ. В 2019 г. возглавила Высшую школу менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ). The Wall Street Journal включила Ольгу Дергунову в число 25 наиболее успешных и влиятельных деловых женщин Европы.

«Сближение университетской среды и бизнеса, на мой взгляд, продолжится через непрерывное взаимодействие, поиск баланса и чувство меры».
— Ольга Константиновна, Вы давно занимаетесь развитием образования — и как директор Высшей школы менеджмента СПбГУ, о чьей уникальной концепции мы обязательно поговорим, и как руководитель ВТБ Образование, будучи при этом старшим вице-президентом Банка ВТБ. Вы в равной степени можете оценивать и роль бизнеса в управлении академическим учреждением, и взаимодействие университетов и компаний. А это тот самый вопрос, который волнует и ректоров, и топ-менеджеров.
Самая очевидная сложность в этих взаимоотношениях состоит в том, что индустрия нацелена прежде всего на прибыльность и доходность, и специалисты и разработки нужны ей здесь и сейчас. Университеты же ведут подготовку кадров и исследования годами, это организации не про сегодня, а про послезавтра.
В чем Вы видите противоречия между академической и бизнес-средой?
— У бизнеса и академической среды разные скорости движения. В бизнесе есть четко понятный результат, инструменты для его достижения и механизмы убеждения сотрудников в том, как этот результат достичь. Всё это кардинально отличается от того, что принято в академической среде. Это не хорошо и не плохо, это просто два разных мира, где люди говорят на разных языках.
Чтобы получить нужный результат, бизнесу необходимо подстраиваться под особенности вузовской среды, уметь ждать, как в известном английском выражении: косить газон 300 лет.
За последние 10 лет ситуация стала меняться. Во многом благодаря программе «Приоритет 2030», которая помогла университетам через целеполагание, через совместное написание стратегии и формирование набора ключевых показателей эффективности приблизиться к привычным в бизнесе лексикону, терминологии и способам управления.
Скажем так: наши векторы сближаются, и они всегда будут двигаться в одну сторону, но с разными скоростями. И это правильно, потому что в академической среде скорость подготовки специалиста длиннее, чем ожидание бизнеса по результату. Бизнес более мобилен и поэтому, действительно, хочет здесь и сейчас. Образно говоря, «блюдо дня» у него меняется ежегодно, тогда как цикл бакалавриата требует понимания того, кого вы хотите принять к себе на первый курс, чтобы через 4 года подготовить специалиста. Это значительно более плавный, осторожный, неизбежно поступательный процесс, сопряженный с воспитанием осознанности у выпускника.
Сближение университетской среды и бизнеса, на мой взгляд, продолжится через непрерывное взаимодействие, поиск баланса и чувство меры. Важно понимать, что в магистратуру к вам на два года приходят люди, четко осознающие, зачем они выбрали именно эту специализацию. Их не надо заставлять учиться. В случае бакалавриата это не так. Университет должен помочь молодому человеку определиться и удостовериться в правильности выбора, сделанного на первом курсе, потому что ожидания в 17 лет и ожидания в 21 год у студента, как правило, разные.
Самая очевидная сложность в этих взаимоотношениях состоит в том, что индустрия нацелена прежде всего на прибыльность и доходность, и специалисты и разработки нужны ей здесь и сейчас. Университеты же ведут подготовку кадров и исследования годами, это организации не про сегодня, а про послезавтра.
В чем Вы видите противоречия между академической и бизнес-средой?
— У бизнеса и академической среды разные скорости движения. В бизнесе есть четко понятный результат, инструменты для его достижения и механизмы убеждения сотрудников в том, как этот результат достичь. Всё это кардинально отличается от того, что принято в академической среде. Это не хорошо и не плохо, это просто два разных мира, где люди говорят на разных языках.
Чтобы получить нужный результат, бизнесу необходимо подстраиваться под особенности вузовской среды, уметь ждать, как в известном английском выражении: косить газон 300 лет.
За последние 10 лет ситуация стала меняться. Во многом благодаря программе «Приоритет 2030», которая помогла университетам через целеполагание, через совместное написание стратегии и формирование набора ключевых показателей эффективности приблизиться к привычным в бизнесе лексикону, терминологии и способам управления.
Скажем так: наши векторы сближаются, и они всегда будут двигаться в одну сторону, но с разными скоростями. И это правильно, потому что в академической среде скорость подготовки специалиста длиннее, чем ожидание бизнеса по результату. Бизнес более мобилен и поэтому, действительно, хочет здесь и сейчас. Образно говоря, «блюдо дня» у него меняется ежегодно, тогда как цикл бакалавриата требует понимания того, кого вы хотите принять к себе на первый курс, чтобы через 4 года подготовить специалиста. Это значительно более плавный, осторожный, неизбежно поступательный процесс, сопряженный с воспитанием осознанности у выпускника.
Сближение университетской среды и бизнеса, на мой взгляд, продолжится через непрерывное взаимодействие, поиск баланса и чувство меры. Важно понимать, что в магистратуру к вам на два года приходят люди, четко осознающие, зачем они выбрали именно эту специализацию. Их не надо заставлять учиться. В случае бакалавриата это не так. Университет должен помочь молодому человеку определиться и удостовериться в правильности выбора, сделанного на первом курсе, потому что ожидания в 17 лет и ожидания в 21 год у студента, как правило, разные.
— В бизнес-школах традиционно нет бакалавриата, однако Высшая школа менеджмента СПбГУ реализует весь образовательный набор: от бакалавриата до аспирантуры, плюс дополнительные программы профессионального образования для взрослых слушателей. Чем это для Вас ценно?
— Концепция образования и развития управленческих навыков у специалистов, которые получают диплом менеджера от уровня бакалавриата до системы непрерывной подготовки дополнительного образования, — это основа ВШМ СПбГУ. Как бизнес-школа внутри классического университета, которому 300 лет и который является opinion maker (формирователь общественного мнения — Прим. ред.) по многим научным и образовательным направлениям, мы получаем уникальную возможность использовать межфакультетское взаимодействие и привлекать лучшие междисциплинарные кадры.
Существование в качественной университетской среде через эксперименты с бакалавриатом, через развитие научных исследований и оценку потенциала выпускника, который выходит на рынок, а потом снова возвращается к нам в магистратуру или ДПО, создает для нас возможность анализировать объект управления под названием «студент». От момента, когда он приходит к нам как абитуриент с результатами ЕГЭ, до встречи с ним уже как со взрослым слушателем на программе Executive Education, EMBA, MBA или других программах профессионального образования.
— Концепция образования и развития управленческих навыков у специалистов, которые получают диплом менеджера от уровня бакалавриата до системы непрерывной подготовки дополнительного образования, — это основа ВШМ СПбГУ. Как бизнес-школа внутри классического университета, которому 300 лет и который является opinion maker (формирователь общественного мнения — Прим. ред.) по многим научным и образовательным направлениям, мы получаем уникальную возможность использовать межфакультетское взаимодействие и привлекать лучшие междисциплинарные кадры.
Существование в качественной университетской среде через эксперименты с бакалавриатом, через развитие научных исследований и оценку потенциала выпускника, который выходит на рынок, а потом снова возвращается к нам в магистратуру или ДПО, создает для нас возможность анализировать объект управления под названием «студент». От момента, когда он приходит к нам как абитуриент с результатами ЕГЭ, до встречи с ним уже как со взрослым слушателем на программе Executive Education, EMBA, MBA или других программах профессионального образования.
«Оценка бизнес-школы — это прежде всего оценка бизнеса, рынка труда, и потому оценка качества ее выпускников — это тоже всегда оценка индустрии и работодателей».
— Как построено Ваше взаимодействие с компаниями-партнерами?
— Оценка бизнес-школы — это прежде всего оценка бизнеса, рынка труда, и потому оценка качества ее выпускников — это тоже всегда оценка индустрии и работодателей.
Работа с индустрией заложена в ДНК бизнес-школы по определению. Модель взаимодействия с работодателями мы выстраивали десятилетиями и поэтому не испытываем тех противоречий, с которыми сталкиваются сегодня классические университеты. Все эти сложности мы проходили вместе с партнерами много лет назад и нашли способ, как их устранить.
Участие бизнеса в управлении бизнес-школой строится через классическую модель корпоративного управления, как в компаниях. У ВШМ СПбГУ есть попечительский совет, который возглавляет Сергей Борисович Иванов, ранее руководивший Администрацией Президента РФ. В состав попечительского совета входят представители крупнейших компаний России: «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «ВТБ», «Северсталь», «РЖД». Такое разнообразие индустриальных партнеров позволило нам, начиная с 2000-х годов, сформулировать к своим выпускникам набор требований, условно универсальных для всей палитры мнений из разных отраслей.
От каждой компании делегированы сотрудники, из числа которых сформирован комитет по управлению стратегией бизнес-школы. Стратегия формализована и построена по лучшим канонам бизнеса: с KPI, с ответственностью за результат и контролем его достижения. Мы постоянно находимся на связи с попечителями, они принимают участие в советах наших образовательных программ, помогают структурировать их содержание, обсуждают результаты, качество приема и выпуска и многие другие вопросы.
Директор бизнес-школы — это тоже человек от бизнеса, закрепленный со стороны попечительского совета и отвечающий вместе с научно-педагогическим и административным коллективом за результат. Точно так же я сейчас отвечаю за свое направление в Банке ВТБ.
— Оценка бизнес-школы — это прежде всего оценка бизнеса, рынка труда, и потому оценка качества ее выпускников — это тоже всегда оценка индустрии и работодателей.
Работа с индустрией заложена в ДНК бизнес-школы по определению. Модель взаимодействия с работодателями мы выстраивали десятилетиями и поэтому не испытываем тех противоречий, с которыми сталкиваются сегодня классические университеты. Все эти сложности мы проходили вместе с партнерами много лет назад и нашли способ, как их устранить.
Участие бизнеса в управлении бизнес-школой строится через классическую модель корпоративного управления, как в компаниях. У ВШМ СПбГУ есть попечительский совет, который возглавляет Сергей Борисович Иванов, ранее руководивший Администрацией Президента РФ. В состав попечительского совета входят представители крупнейших компаний России: «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «ВТБ», «Северсталь», «РЖД». Такое разнообразие индустриальных партнеров позволило нам, начиная с 2000-х годов, сформулировать к своим выпускникам набор требований, условно универсальных для всей палитры мнений из разных отраслей.
От каждой компании делегированы сотрудники, из числа которых сформирован комитет по управлению стратегией бизнес-школы. Стратегия формализована и построена по лучшим канонам бизнеса: с KPI, с ответственностью за результат и контролем его достижения. Мы постоянно находимся на связи с попечителями, они принимают участие в советах наших образовательных программ, помогают структурировать их содержание, обсуждают результаты, качество приема и выпуска и многие другие вопросы.
Директор бизнес-школы — это тоже человек от бизнеса, закрепленный со стороны попечительского совета и отвечающий вместе с научно-педагогическим и административным коллективом за результат. Точно так же я сейчас отвечаю за свое направление в Банке ВТБ.
«Как люди бизнеса, работающие с академической средой, мы определили для себя, что студентов, не готовых учиться, мы отчисляем. В бизнесе не позволяют себе быть неэффективными».
— Высшая школа менеджмента СПбГУ основана в 1990-е годы и была включена в рейтинг мировых бизнес-школ Financial Times. Вы единственная среди всех российских бизнес-школ, вошедшая в 1% лучших бизнес-школ мира. Одна из Ваших образовательных программ до 2022 года входила в топ-25 мировых магистратур. Интересно, какие особенности есть в Вашем образовательном процессе.
— ВШМ СПбГУ работает со специальностью «Экономика и управление» и готовит на бакалавриате «универсального солдата», который соответствует рынку труда и подходит для работы как в Газпроме и в ВТБ, так и в иностранной компании.
Каждая из наших магистратур появилась в результате обсуждений с теми индустриями, на которые нацелены выпускники. Только так возникает та самая синергия между тем, чего хочет индустрия на этапе проектирования образовательных программ, и тем результатом, который показывает школа на выходе. Это механизм непрерывного взаимодействия, с четко расставленными реперными точками и вехами, на которых мы обсуждаем достижение результата на всех уровнях участия, включая научно-педагогических работников. Наши преподаватели приезжают на стажировки в компании, чтобы, поняв, как устроена та или иная организация, вернуться в бизнес-школу, преобразовать свои знания и впечатления в результат и перенести их в свою дисциплину. Так мы работаем уже почти 25 лет.
Правильно донося позицию компании, то, как она устроена и функционирует, мы даем студентам возможность самостоятельно принять решение: работать им там или нет. Обучающиеся с первого курса находятся в непрерывном цикле взаимодействия с потенциальными работодателями, и это дает им уверенность в том, что они будут соответствовать их требованиям на выходе из бизнес-школы.
Мы в свою очередь получаем не потерянного выпускника, который не знает, куда ему пойти работать, а хорошо подготовленного человека, который делает взрослый, осознанный выбор между компаниями, где он проходил практику или стажировку, с которыми делал индустриальный проект. 100% наших выпускников работают по специальности. ВШМ СПбГУ — лидер по зарплатным ожиданиям и зарплатным результатам среди выпускников, а это важнейший показатель. Рынок не обманешь.
Как люди бизнеса, работающие с академической средой, мы определили для себя, что студентов, не готовых учиться, мы отчисляем. В бизнесе не позволяют себе быть неэффективными. Принцип отбора, меритократии и выбор лучших положены в основу школы, начиная с первого курса.
У нас сложно учиться, поэтому с теми, кто не справляется, а таких примерно 10%, мы прощаемся уже на втором курсе, пока у них еще действуют результаты ЕГЭ и есть шанс найти себя в других направлениях. Мы разговариваем со своими студентами как со взрослыми людьми, которые сами отвечают за свой выбор. Ни мамы, ни папы не могут принять за них это решение.
Первые три года бакалавриата мы не приветствуем попытку студентов совмещать учебу и работу. Структура образовательных программ построена так, что это в принципе невозможно. После третьего курса, когда у студентов уже сформирована база, мы предоставляем им возможность стажировок и включенного обучения, когда можно поехать в другие университеты по всему миру, попробовать себя в разных сферах в бизнесе.
— ВШМ СПбГУ работает со специальностью «Экономика и управление» и готовит на бакалавриате «универсального солдата», который соответствует рынку труда и подходит для работы как в Газпроме и в ВТБ, так и в иностранной компании.
Каждая из наших магистратур появилась в результате обсуждений с теми индустриями, на которые нацелены выпускники. Только так возникает та самая синергия между тем, чего хочет индустрия на этапе проектирования образовательных программ, и тем результатом, который показывает школа на выходе. Это механизм непрерывного взаимодействия, с четко расставленными реперными точками и вехами, на которых мы обсуждаем достижение результата на всех уровнях участия, включая научно-педагогических работников. Наши преподаватели приезжают на стажировки в компании, чтобы, поняв, как устроена та или иная организация, вернуться в бизнес-школу, преобразовать свои знания и впечатления в результат и перенести их в свою дисциплину. Так мы работаем уже почти 25 лет.
Правильно донося позицию компании, то, как она устроена и функционирует, мы даем студентам возможность самостоятельно принять решение: работать им там или нет. Обучающиеся с первого курса находятся в непрерывном цикле взаимодействия с потенциальными работодателями, и это дает им уверенность в том, что они будут соответствовать их требованиям на выходе из бизнес-школы.
Мы в свою очередь получаем не потерянного выпускника, который не знает, куда ему пойти работать, а хорошо подготовленного человека, который делает взрослый, осознанный выбор между компаниями, где он проходил практику или стажировку, с которыми делал индустриальный проект. 100% наших выпускников работают по специальности. ВШМ СПбГУ — лидер по зарплатным ожиданиям и зарплатным результатам среди выпускников, а это важнейший показатель. Рынок не обманешь.
Как люди бизнеса, работающие с академической средой, мы определили для себя, что студентов, не готовых учиться, мы отчисляем. В бизнесе не позволяют себе быть неэффективными. Принцип отбора, меритократии и выбор лучших положены в основу школы, начиная с первого курса.
У нас сложно учиться, поэтому с теми, кто не справляется, а таких примерно 10%, мы прощаемся уже на втором курсе, пока у них еще действуют результаты ЕГЭ и есть шанс найти себя в других направлениях. Мы разговариваем со своими студентами как со взрослыми людьми, которые сами отвечают за свой выбор. Ни мамы, ни папы не могут принять за них это решение.
Первые три года бакалавриата мы не приветствуем попытку студентов совмещать учебу и работу. Структура образовательных программ построена так, что это в принципе невозможно. После третьего курса, когда у студентов уже сформирована база, мы предоставляем им возможность стажировок и включенного обучения, когда можно поехать в другие университеты по всему миру, попробовать себя в разных сферах в бизнесе.
«В университетах готовят людей, которые в состоянии мыслить, рассуждать и работать по большому счету в любой отрасли».
— Вы отметили, что оценка качества выпускника — это всегда оценка индустрии, работодателей и в целом рынка. Предлагаем оттолкнуться от этого тезиса. Получается, что если отрасль недовольна качеством выпускников, которых она получает на выходе из вузов, ей стоит задавать вопрос о причинах этого результата и себе тоже, а не только университетам. Обосновано ли в таком случае потребительское отношение к вузам со стороны бизнеса, о котором нередко говорят ректоры?
— Вы знаете, я работаю с системой образования с конца 1990-х годов и не сталкивалась с пренебрежительным отношением индустрии к бизнес-школе. Мне кажется дурным тоном пренебрежительно относиться вообще к кому бы то ни было, вне зависимости от сферы деятельности. Бизнес-школа не может существовать по определению, если она не соответствует требованиям индустрии. Тогда это не бизнес-школа, а факультет менеджмента, зацикленный на академических дисциплинах.
То, о чем вы спрашиваете, скорее, сигнализирует о другой проблеме: сложно вести диалог с собеседником, который мыслит по-другому, говорит с другой скоростью и у которого другие приоритеты, а вам при этом надо найти точки соприкосновения. Это непростая задача для обеих сторон. Университету важно понять, чего хочет индустрия, но и индустрии тоже нельзя приходить на первый курс вуза и говорить студентам: «Ребята, идите к нам вместо обучения, мы вас сами доучим». Некоторые компании так и поступают. В результате мы получаем несистемного, случайным образом «собранного» специалиста, который не понимает взаимосвязи многих очевидных вещей.
Мне кажется, разрыв произошел тогда, когда все вузы стали называться университетами. В советской системе образования было четкое деление. Были университеты как академическое сообщество множества факультетов с междисциплинарным взаимодействием, которое давало общий системный взгляд на предметы с научной точки зрения и где готовили людей к научной и академической карьере. И были прикладные, четко сегментированные институты, многие из которых были заточены под конкретные предприятия. По ряду причин теперь все они зовутся университетами. Но фактически это не так. Отличие великих классических университетов, таких как старейший Санкт-Петербургский университет или МГУ имени М. В. Ломоносова, в фундаментальности и системности их образования. В университетах готовят людей, которые в состоянии мыслить, рассуждать и работать по большому счету в любой отрасли.
Сегодня многие предприятия пытаются сделать под себя факультеты по формату «завод — втуз», рассчитывая на целевых выпускников, которые будут понимать, что нужно конкретно этому бизнесу. Я приверженец другого подхода: я все-таки за системную подготовку выпускника, чей портрет составляют креативность, коммуникабельность, кооперабельность, умение работать в командах, знание культурного контекста, безупречное владение инструментами бизнес-анализа и современными технологиями. Это тот специалист, которого каждый работодатель хочет видеть в своей компании.
— Вы знаете, я работаю с системой образования с конца 1990-х годов и не сталкивалась с пренебрежительным отношением индустрии к бизнес-школе. Мне кажется дурным тоном пренебрежительно относиться вообще к кому бы то ни было, вне зависимости от сферы деятельности. Бизнес-школа не может существовать по определению, если она не соответствует требованиям индустрии. Тогда это не бизнес-школа, а факультет менеджмента, зацикленный на академических дисциплинах.
То, о чем вы спрашиваете, скорее, сигнализирует о другой проблеме: сложно вести диалог с собеседником, который мыслит по-другому, говорит с другой скоростью и у которого другие приоритеты, а вам при этом надо найти точки соприкосновения. Это непростая задача для обеих сторон. Университету важно понять, чего хочет индустрия, но и индустрии тоже нельзя приходить на первый курс вуза и говорить студентам: «Ребята, идите к нам вместо обучения, мы вас сами доучим». Некоторые компании так и поступают. В результате мы получаем несистемного, случайным образом «собранного» специалиста, который не понимает взаимосвязи многих очевидных вещей.
Мне кажется, разрыв произошел тогда, когда все вузы стали называться университетами. В советской системе образования было четкое деление. Были университеты как академическое сообщество множества факультетов с междисциплинарным взаимодействием, которое давало общий системный взгляд на предметы с научной точки зрения и где готовили людей к научной и академической карьере. И были прикладные, четко сегментированные институты, многие из которых были заточены под конкретные предприятия. По ряду причин теперь все они зовутся университетами. Но фактически это не так. Отличие великих классических университетов, таких как старейший Санкт-Петербургский университет или МГУ имени М. В. Ломоносова, в фундаментальности и системности их образования. В университетах готовят людей, которые в состоянии мыслить, рассуждать и работать по большому счету в любой отрасли.
Сегодня многие предприятия пытаются сделать под себя факультеты по формату «завод — втуз», рассчитывая на целевых выпускников, которые будут понимать, что нужно конкретно этому бизнесу. Я приверженец другого подхода: я все-таки за системную подготовку выпускника, чей портрет составляют креативность, коммуникабельность, кооперабельность, умение работать в командах, знание культурного контекста, безупречное владение инструментами бизнес-анализа и современными технологиями. Это тот специалист, которого каждый работодатель хочет видеть в своей компании.
— Как рынок в цифрах оценивает результаты этого обучения?
— Зарплатой. То, что Правительство Российской Федерации запустило проект по учету зарплат выпускников и выходящих на рынок труда специалистов, — это огромный шаг вперед, который позволяет объективизировать и адекватно оценить усилия по подготовке кадров. Есть вопросы к методике расчетов, к тому, как всё это будет совершенствоваться. Тем не менее, это движение к объективной картине мира, характеристика, которой дальше можно управлять и на которую можно ориентироваться, а не просто результаты опросов выпускников.
— Зарплатой. То, что Правительство Российской Федерации запустило проект по учету зарплат выпускников и выходящих на рынок труда специалистов, — это огромный шаг вперед, который позволяет объективизировать и адекватно оценить усилия по подготовке кадров. Есть вопросы к методике расчетов, к тому, как всё это будет совершенствоваться. Тем не менее, это движение к объективной картине мира, характеристика, которой дальше можно управлять и на которую можно ориентироваться, а не просто результаты опросов выпускников.
«Кругозор формируется тогда, когда мы обучаем студентов смотреть на проблему с разных точек зрения».
— Вернемся к портрету идеального выпускника. Что всё-таки работодатель на самом деле хочет получить: качественно подготовленного специалиста или тот самый «эффект от высшего образования», то есть хорошо образованного и обучаемого человека?
— Я не случайно сказала, что среди характеристик выпускника мы во главу угла ставим пять «К»: коммуникабельность, кооперабельность, командность, креативность и кругозор. Компании все разные, как и вузы. Кому-то для выполнения функциональных ролей нужен универсальный солдат, который в течение пяти лет будет четко делать то, что требуется, без креатива. А есть компании, которые работают в модели непрерывной конкуренции на рынке и вынуждены создавать новые продукты, поэтому им нужны в командах люди, способные предложить новые способы решений самых разных задач. Вы не сможете предложить новый способ решения, если у вас нет насмотренности и понимания того, что до вас задачи решали по-другому, а вы должны придумать нестандартный вариант.
Почему я не сторонник совмещения учебы с работой до третьего курса бакалавриата включительно? Потому что в первые три года студенты не могут изобрести новый метод — они старых не знают. Изобретение велосипеда с первого по третий курс развлекает, но не убеждает.
Кругозор формируется тогда, когда мы обучаем студентов смотреть на проблему с разных точек зрения. Когда они умеют это делать, то на встречах с руководителями компаний, иногда с первыми лицами, они со знанием дела задают профессиональные вопросы. Тогда рождается специалист, который может сказать топ-менеджеру: «Я прочитал вашу стратегию — она не убедительна. То, что вы рассказываете, не сходится с тем, что я прочитал и проанализировал». У нас и такое было. Могу подтвердить как представитель бизнеса, что такой собеседник вызывает уважение, потому что он сделал домашнюю работу, он потрудился разобраться, с ним хочется продолжить этот взрослый профессиональный разговор. Вот тогда диалог между индустрией и вузом становится содержательным, адекватным и продуктивным для обеих сторон.
Представители компаний включены в составы наших государственных экзаменационных комиссий не потому, что так положено, а потому, что эти люди тратят 10 часов своего времени на то, чтобы услышать защиты дипломных работ, обсудить, иногда до хрипоты, какую оценку ставить, и потом сказать: «В прошлом году студенты были посильнее», или наоборот, отметить, какой хороший в этот раз выпуск. Вот это называется «skin in the game», работа на результат. И компания видит, что ты делаешь, и студент понимает, что он интересен не для галочки и не потому, что надо диплом подписать.
Через такие непрерывные интеграции возникает, как мне кажется, самое главное — доверие между бизнесом и академией. Что-то может получаться по дороге, что-то нет. Не все проекты успешны, не все дисциплины одинаково хороши. Но именно через такую систему постоянных улучшений, обновлений, обсуждений, собственно, и проходит этот совместный путь.
— Я не случайно сказала, что среди характеристик выпускника мы во главу угла ставим пять «К»: коммуникабельность, кооперабельность, командность, креативность и кругозор. Компании все разные, как и вузы. Кому-то для выполнения функциональных ролей нужен универсальный солдат, который в течение пяти лет будет четко делать то, что требуется, без креатива. А есть компании, которые работают в модели непрерывной конкуренции на рынке и вынуждены создавать новые продукты, поэтому им нужны в командах люди, способные предложить новые способы решений самых разных задач. Вы не сможете предложить новый способ решения, если у вас нет насмотренности и понимания того, что до вас задачи решали по-другому, а вы должны придумать нестандартный вариант.
Почему я не сторонник совмещения учебы с работой до третьего курса бакалавриата включительно? Потому что в первые три года студенты не могут изобрести новый метод — они старых не знают. Изобретение велосипеда с первого по третий курс развлекает, но не убеждает.
Кругозор формируется тогда, когда мы обучаем студентов смотреть на проблему с разных точек зрения. Когда они умеют это делать, то на встречах с руководителями компаний, иногда с первыми лицами, они со знанием дела задают профессиональные вопросы. Тогда рождается специалист, который может сказать топ-менеджеру: «Я прочитал вашу стратегию — она не убедительна. То, что вы рассказываете, не сходится с тем, что я прочитал и проанализировал». У нас и такое было. Могу подтвердить как представитель бизнеса, что такой собеседник вызывает уважение, потому что он сделал домашнюю работу, он потрудился разобраться, с ним хочется продолжить этот взрослый профессиональный разговор. Вот тогда диалог между индустрией и вузом становится содержательным, адекватным и продуктивным для обеих сторон.
Представители компаний включены в составы наших государственных экзаменационных комиссий не потому, что так положено, а потому, что эти люди тратят 10 часов своего времени на то, чтобы услышать защиты дипломных работ, обсудить, иногда до хрипоты, какую оценку ставить, и потом сказать: «В прошлом году студенты были посильнее», или наоборот, отметить, какой хороший в этот раз выпуск. Вот это называется «skin in the game», работа на результат. И компания видит, что ты делаешь, и студент понимает, что он интересен не для галочки и не потому, что надо диплом подписать.
Через такие непрерывные интеграции возникает, как мне кажется, самое главное — доверие между бизнесом и академией. Что-то может получаться по дороге, что-то нет. Не все проекты успешны, не все дисциплины одинаково хороши. Но именно через такую систему постоянных улучшений, обновлений, обсуждений, собственно, и проходит этот совместный путь.
«... прежде, чем принести какую-то технологию в дисциплину или позвать компанию с определенной технологией преподавать у нас, мы должны убедиться в том, что эта технология системная, масштабируемая и универсальная».
— Было ли что-то на этом пути, что Вам пришлось разучиться делать?
— Скорее, мы сформулировали для себя некоторые принципы, чего мы не делаем. Наша задача, как и у врачей, — не навредить объекту управления «дежур-подходом». Мы договорились, что прежде, чем принести какую-то технологию в дисциплину или позвать компанию с определенной технологией преподавать у нас, мы должны убедиться в том, что эта технология системная, масштабируемая и универсальная. Технологическая революция идет с такой скоростью, что хайп сегодня возникает вокруг новаций, о которых через три года редкий студент вообще вспомнит. Мы научились сглаживать попытки таких хайп-компаний и хайп-технологий влиять на наш образовательный процесс. Наша задача не научить технологиям компании X, пусть даже компания X придет к нам с деньгами и со словами: «Откройте нам кафедру, мы всех ваших студентов научим своей технологии». Мы не пойдем по такому пути, а посмотрим, как эта технология встраивается в общий системный взгляд, насколько она масштабируема и поможет ли ее знание студенту быть эффективным на горизонте следующих 5–10 лет при работе в найме или в своем бизнесе. Это очень важный для нас вывод.
«Дежур-пожелания» возможны в режиме дополнительных врезок, интенсивов — чтобы попробовать, пообсуждать, но не в качестве общесистемного встраивания в дисциплину, за результат которой мы отвечаем на долгосрочной основе.
Что мы приветствуем из отрицания «дежур-подхода»? Мы договорились среди своих попечителей о том, что цифровая образовательная среда, в которой существуют студент и преподаватель, для современной бизнес-школы — не просто визитная карточка. Это среда существования. Еще в 2020 году мы сформулировали подход к гибридной модели обучения, заранее обсудив гипотезу о том, что формат, когда одна часть аудитории находится онлайн, а другая — офлайн, будет крайне интересен и имеет все предпосылки для того, чтобы стать локомотивом движения бизнес-школы. К началу пандемии мы были вооружены инфраструктурой, подходом и готовностью к экспериментам и за последующие два года сформировали вокруг себя сообщество методистов, которые стали иначе структурировать содержание основных образовательных программ и программ для взрослых слушателей, провели эксперименты, замеры. Теперь через наших методистов по гибридной модели обучения с нами взаимодействуют больше 230 вузов. Это пример того, когда бизнес подхватил идею у образования и сказал: да, нам это нужно, давайте попробуем.
— Скорее, мы сформулировали для себя некоторые принципы, чего мы не делаем. Наша задача, как и у врачей, — не навредить объекту управления «дежур-подходом». Мы договорились, что прежде, чем принести какую-то технологию в дисциплину или позвать компанию с определенной технологией преподавать у нас, мы должны убедиться в том, что эта технология системная, масштабируемая и универсальная. Технологическая революция идет с такой скоростью, что хайп сегодня возникает вокруг новаций, о которых через три года редкий студент вообще вспомнит. Мы научились сглаживать попытки таких хайп-компаний и хайп-технологий влиять на наш образовательный процесс. Наша задача не научить технологиям компании X, пусть даже компания X придет к нам с деньгами и со словами: «Откройте нам кафедру, мы всех ваших студентов научим своей технологии». Мы не пойдем по такому пути, а посмотрим, как эта технология встраивается в общий системный взгляд, насколько она масштабируема и поможет ли ее знание студенту быть эффективным на горизонте следующих 5–10 лет при работе в найме или в своем бизнесе. Это очень важный для нас вывод.
«Дежур-пожелания» возможны в режиме дополнительных врезок, интенсивов — чтобы попробовать, пообсуждать, но не в качестве общесистемного встраивания в дисциплину, за результат которой мы отвечаем на долгосрочной основе.
Что мы приветствуем из отрицания «дежур-подхода»? Мы договорились среди своих попечителей о том, что цифровая образовательная среда, в которой существуют студент и преподаватель, для современной бизнес-школы — не просто визитная карточка. Это среда существования. Еще в 2020 году мы сформулировали подход к гибридной модели обучения, заранее обсудив гипотезу о том, что формат, когда одна часть аудитории находится онлайн, а другая — офлайн, будет крайне интересен и имеет все предпосылки для того, чтобы стать локомотивом движения бизнес-школы. К началу пандемии мы были вооружены инфраструктурой, подходом и готовностью к экспериментам и за последующие два года сформировали вокруг себя сообщество методистов, которые стали иначе структурировать содержание основных образовательных программ и программ для взрослых слушателей, провели эксперименты, замеры. Теперь через наших методистов по гибридной модели обучения с нами взаимодействуют больше 230 вузов. Это пример того, когда бизнес подхватил идею у образования и сказал: да, нам это нужно, давайте попробуем.
— Что еще может помочь университетам интегрироваться в долгий горизонт планирования бизнеса, а главное — в орбиту его доверия к вузу-партнеру?
— Доверие достигается только через действие. За крупнейшие и лучшие вузы на уровне компаний идет жесточайшая конкуренция. Сегодня у студента есть выбор, на какую стажировку или практику ему пойти, с учетом текущего состояния рынка труда и того, как разные компании позиционируют себя на этом рынке. Для вуза крайне важно, чтобы его студентов было видно компаниям на разных этапах движения по образовательному маршруту. Формат мероприятия или общения со студентами должен быть понятен для компании и в то же время безопасен для самого вуза, чтобы обучающийся потом не сказал, что он бросает учебу ради работы.
Необходимо договориться, какой результат мы все хотим получить, и дальше определить способы его достижения. У вуза должен быть инструмент, который можно дать в руки компании, чтобы та могла подключиться к оценкам курсовых работ, взять студентов на летнюю практику. Собирайте обратную связь от партнера: работает ваша схема или нет. А еще важно помнить, что количество часов в сутках ограничено, и у студентов всегда есть выбор: пойти на занятия, на работу, на внеучебные мероприятия, на интенсив от компании или отдыхать.
— Доверие достигается только через действие. За крупнейшие и лучшие вузы на уровне компаний идет жесточайшая конкуренция. Сегодня у студента есть выбор, на какую стажировку или практику ему пойти, с учетом текущего состояния рынка труда и того, как разные компании позиционируют себя на этом рынке. Для вуза крайне важно, чтобы его студентов было видно компаниям на разных этапах движения по образовательному маршруту. Формат мероприятия или общения со студентами должен быть понятен для компании и в то же время безопасен для самого вуза, чтобы обучающийся потом не сказал, что он бросает учебу ради работы.
Необходимо договориться, какой результат мы все хотим получить, и дальше определить способы его достижения. У вуза должен быть инструмент, который можно дать в руки компании, чтобы та могла подключиться к оценкам курсовых работ, взять студентов на летнюю практику. Собирайте обратную связь от партнера: работает ваша схема или нет. А еще важно помнить, что количество часов в сутках ограничено, и у студентов всегда есть выбор: пойти на занятия, на работу, на внеучебные мероприятия, на интенсив от компании или отдыхать.
— На Петербургском международном экономическом форуме 2025, на экспертной секции о высшем образовании, Вы отметили важный момент: индустриальный партнер приходит в вуз не только с деньгами, но и — в идеале — с пониманием важности того, что студенту надо дать возможность получить фундаментальное образование, доучиться, «дозреть» в академической среде. Если его раньше времени оторвать от учебы, он, возможно, больше никогда не захочет вернуться в науку, в исследовательскую работу. Но вместе с тем производству нужно, чтобы будущие специалисты как можно скорее погрузились в реальные условия работы. Это же поддерживают и вузы. Так как же найти баланс?
— Универсального решения здесь нет. Вузы с инженерными специальностями, которые нацелены на конкретную функцию, на результат с понятным горизонтом современных технологий, — по факту, скорее, являются специализированными институтами, куда люди приходят после колледжа, уже получив опыт работы на предприятии и будучи встроенными в производственный процесс. Это прекрасный путь, но это не про университет, потому что университетское образование развивает больший кругозор. Там студенту нужно больше времени уделять универсальным дисциплинам, от математики до философии, потому что именно они формируют понятийный аппарат.
Мне кажется, в этом смысле магистратура для уже работающих людей значительно более важный инструмент целеполагания и фокусировки на результат. С нашими магистрами мы реализуем такой проект: студент на год становится сотрудником крупнейшего предприятия наших попечителей в режиме полного рабочего дня и одновременно учится в магистратуре. На выходе его диплом — это то, что он выполнил на своем рабочем месте, и компания по этому результату понимает, насколько человек заинтересован в работе, а сотрудник оценивает, насколько компания соответствует его ожиданиям. Благодаря этому подходу, скорость выхода специалиста на рынок труда после магистратуры сокращается на целый год, потому как, пройдя индустриальную стажировку, человек с высокой степенью вероятности остается работать в этой же компании.
— Универсального решения здесь нет. Вузы с инженерными специальностями, которые нацелены на конкретную функцию, на результат с понятным горизонтом современных технологий, — по факту, скорее, являются специализированными институтами, куда люди приходят после колледжа, уже получив опыт работы на предприятии и будучи встроенными в производственный процесс. Это прекрасный путь, но это не про университет, потому что университетское образование развивает больший кругозор. Там студенту нужно больше времени уделять универсальным дисциплинам, от математики до философии, потому что именно они формируют понятийный аппарат.
Мне кажется, в этом смысле магистратура для уже работающих людей значительно более важный инструмент целеполагания и фокусировки на результат. С нашими магистрами мы реализуем такой проект: студент на год становится сотрудником крупнейшего предприятия наших попечителей в режиме полного рабочего дня и одновременно учится в магистратуре. На выходе его диплом — это то, что он выполнил на своем рабочем месте, и компания по этому результату понимает, насколько человек заинтересован в работе, а сотрудник оценивает, насколько компания соответствует его ожиданиям. Благодаря этому подходу, скорость выхода специалиста на рынок труда после магистратуры сокращается на целый год, потому как, пройдя индустриальную стажировку, человек с высокой степенью вероятности остается работать в этой же компании.
— Вы уже начали об этом говорить, хотелось бы продолжить тему. Какие общечеловеческие знания, помимо сугубо утилитарных и профессиональных, Вы считаете, студент должен получить в университете, чтобы стать хорошим специалистом в своей области и быть полезным в компании?
— Расширение кругозора и возможность применять его в дальнейшем дают гуманитарные дисциплины. Приведу в пример философию, которую студенты базово изучают на первом курсе. Будем честны: интерес к этой дисциплине редко сопровождается большим энтузиазмом. А ведь философия дает нам понимание того, как древние люди принимали решения, и сегодня, анализируя эти подходы, мы учимся находить в них много общего с тем, что происходит вокруг нас. Мы решили поэкспериментировать и ввели на третьем курсе «Философию для менеджеров» на английском языке как отдельный факультатив. Думали: попробуем, посмотрим, что из этого выйдет, и получили очередь из желающих попасть на этот курс. Начали анализировать, в чем причина, почему отношение студентов к этой дисциплине на первом и третьем курсах так отличается. А причина в осознанности. К третьему курсу у человека уже есть насмотренность, он уже много книг прочитал, у него сформировался философский контекст, который он готов применить к текущим моделям принятия решений. И тогда философия становится ему интересна.
На первой встрече с первокурсниками ВШМ — а у нас 75% студентов иногородние ребята — я всегда прошу поднять руку тех, кто был в Эрмитаже или в Русском музее, за исключением петербуржцев. Обычно вижу одну-две руки. Такой же вопрос я задаю на выпускном вечере, и тогда уже передо мной «лес рук». Культурный контекст, в котором обучается студент, очень важен.
Высшая школа менеджмента СПбГУ располагается в уникальном месте. По поручению Президента России ее кампус возведен на территории идеально восстановленного исторического памятника XIX века — великокняжеской усадьбы «Михайловская дача». Соответствующее поручение было поддержано аргументом, что в культурной столице нашей страны должен быть университетский кампус мирового уровня. В 2006 году, когда началось его строительство, даже такого термина еще не было. Но именно наш университетский кампус призван был показать, что модель управления и менеджерская культура в России не просто не уступают нашим коллегам из других стран, но имеют свои уникальные исторические и культурные особенности.
Мы погружаем студентов в контекст того, что современная культурная среда, среда, в которой они учатся и с которой взаимодействуют на кончиках пальцев, — это тот культурный контекст и кругозор, который они дальше понесут на свое рабочее место. Это важнейшая составляющая их будущего успеха, креативности, умения находить нестандартные способы решения задач.
— Расширение кругозора и возможность применять его в дальнейшем дают гуманитарные дисциплины. Приведу в пример философию, которую студенты базово изучают на первом курсе. Будем честны: интерес к этой дисциплине редко сопровождается большим энтузиазмом. А ведь философия дает нам понимание того, как древние люди принимали решения, и сегодня, анализируя эти подходы, мы учимся находить в них много общего с тем, что происходит вокруг нас. Мы решили поэкспериментировать и ввели на третьем курсе «Философию для менеджеров» на английском языке как отдельный факультатив. Думали: попробуем, посмотрим, что из этого выйдет, и получили очередь из желающих попасть на этот курс. Начали анализировать, в чем причина, почему отношение студентов к этой дисциплине на первом и третьем курсах так отличается. А причина в осознанности. К третьему курсу у человека уже есть насмотренность, он уже много книг прочитал, у него сформировался философский контекст, который он готов применить к текущим моделям принятия решений. И тогда философия становится ему интересна.
На первой встрече с первокурсниками ВШМ — а у нас 75% студентов иногородние ребята — я всегда прошу поднять руку тех, кто был в Эрмитаже или в Русском музее, за исключением петербуржцев. Обычно вижу одну-две руки. Такой же вопрос я задаю на выпускном вечере, и тогда уже передо мной «лес рук». Культурный контекст, в котором обучается студент, очень важен.
Высшая школа менеджмента СПбГУ располагается в уникальном месте. По поручению Президента России ее кампус возведен на территории идеально восстановленного исторического памятника XIX века — великокняжеской усадьбы «Михайловская дача». Соответствующее поручение было поддержано аргументом, что в культурной столице нашей страны должен быть университетский кампус мирового уровня. В 2006 году, когда началось его строительство, даже такого термина еще не было. Но именно наш университетский кампус призван был показать, что модель управления и менеджерская культура в России не просто не уступают нашим коллегам из других стран, но имеют свои уникальные исторические и культурные особенности.
Мы погружаем студентов в контекст того, что современная культурная среда, среда, в которой они учатся и с которой взаимодействуют на кончиках пальцев, — это тот культурный контекст и кругозор, который они дальше понесут на свое рабочее место. Это важнейшая составляющая их будущего успеха, креативности, умения находить нестандартные способы решения задач.
— По Вашим наблюдениям, сегодня наличие диплома передового университета — это в большей степени пропуск на старте карьеры, или же значимый фактор в перспективе, при отборе кандидата на управленческие позиции, а первые годы сотрудника оценивают все же по результатам работы, а не по диплому?
— Большую когорту тех, кто попадает на практики в крупные компании, составляют студенты ведущих вузов. В этом смысле диплом имеет значение, потому что это визитная карточка и до определенной степени квалификационная характеристика, пусть и усредненная. Оценка рынком того результата образовательного труда, который дают высшие учебные заведения, конечно же, сохраняется. Когда мы видим в отборе Банка ВТБ список крупнейших вузов, откуда к нам приходят стажеры, это подчеркивает качество обучения в этих университетах. Когда студент перестает быть стажером и становится сотрудником компании, скорость его адаптации на рабочем месте тоже во многом определяется тем, какой вуз он закончил.
Образование и дипломы имеют значение на любых этапах построения карьеры. У меня в команде, например, всегда много выпускников из Московского физтеха, и я могу сказать, что это универсальные решатели задач. Нет такой задачи, для которой выпускник МФТИ не придумает решение. То же самое скажу про выпускников МГИМО, Санкт-Петербургского или Московского университетов, у них тоже свои особые паттерны решения задач и особые способы общения. От этого можно отнекиваться, говорить, что мы на это не смотрим, но на больших выборках, на длительных отрезках времени, отчетливо видны отличия выпускников лучших вузов.
— Большую когорту тех, кто попадает на практики в крупные компании, составляют студенты ведущих вузов. В этом смысле диплом имеет значение, потому что это визитная карточка и до определенной степени квалификационная характеристика, пусть и усредненная. Оценка рынком того результата образовательного труда, который дают высшие учебные заведения, конечно же, сохраняется. Когда мы видим в отборе Банка ВТБ список крупнейших вузов, откуда к нам приходят стажеры, это подчеркивает качество обучения в этих университетах. Когда студент перестает быть стажером и становится сотрудником компании, скорость его адаптации на рабочем месте тоже во многом определяется тем, какой вуз он закончил.
Образование и дипломы имеют значение на любых этапах построения карьеры. У меня в команде, например, всегда много выпускников из Московского физтеха, и я могу сказать, что это универсальные решатели задач. Нет такой задачи, для которой выпускник МФТИ не придумает решение. То же самое скажу про выпускников МГИМО, Санкт-Петербургского или Московского университетов, у них тоже свои особые паттерны решения задач и особые способы общения. От этого можно отнекиваться, говорить, что мы на это не смотрим, но на больших выборках, на длительных отрезках времени, отчетливо видны отличия выпускников лучших вузов.
«Труд преподавателя высшей школы фундаментально недооценен, потому что эти люди — пассионарии, когда они действительно хотят достичь результата».
— Ольга Константиновна, а Вы своего выпускника узнаете?
— Обязательно! У нас яркие, уверенные в себе, насмотренные ребята. У многих за плечами включенное обучение, работа на практиках в четырех разных компаниях, поездки на полевые исследования в разные города. Бакалавры выходят из стен ВШМ не просто с ощущением того, что они специалисты, а с осознанием того, что уже многое сделали и знают, о чем говорят.
Мы все время говорим о студентах, но говорить надо и о преподавателях тоже, об администраторах вузов, которые обеспечивают обучающимся возможности быть такими, какими мы их выпускаем на рынок. Труд преподавателя высшей школы фундаментально недооценен, потому что эти люди — пассионарии, когда они действительно хотят достичь результата.
Свой летний отпуск половина преподавателей Высшей школы менеджмента проводят на практиках и проектах вместе со студентами, в общении с методистами по всей России, и после этого приходят в аудитории 1 сентября со словами: «Ну что, ребята, погнали! Начинаем новый сезон». Вот это я называю единством людей, которые хотят достичь результата. Может быть, это синдром бизнес-школы, потому что здесь ты работаешь на результат и знаешь, что твой результат оценят. А это дорогого стоит.
Мы, как и многие университеты, проводим замеры обратной связи о качестве преподавания. Причем делаем это с какой-то маниакальной регулярностью, но иначе бы мы, наверное, не входили в 1% лучших бизнес-школ мира. Во-первых, это элемент культуры, а во-вторых, нам самим это важно для управления и развития. Так вот, у нас есть преподаватель, иностранец, у которого по результатам обратной связи за последние 10 лет лучшие оценки по всем его дисциплинам. Я была у него на лекции — он потрясающий специалист, и спросила у него: «Скажи, пожалуйста, что ты делаешь, что у тебя по всем твоим дисциплинам высший балл от студентов?». Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Знаешь, я люблю свою работу». У него тоже загрузка, отчетность, сложные задачи, и в сутках у него тоже 24 часа, но он любит свою работу. Вот когда каждый из нас и в бизнесе, и в университете скажет: «Я люблю свою работу», тогда у нас все будет получаться хорошо.
— Обязательно! У нас яркие, уверенные в себе, насмотренные ребята. У многих за плечами включенное обучение, работа на практиках в четырех разных компаниях, поездки на полевые исследования в разные города. Бакалавры выходят из стен ВШМ не просто с ощущением того, что они специалисты, а с осознанием того, что уже многое сделали и знают, о чем говорят.
Мы все время говорим о студентах, но говорить надо и о преподавателях тоже, об администраторах вузов, которые обеспечивают обучающимся возможности быть такими, какими мы их выпускаем на рынок. Труд преподавателя высшей школы фундаментально недооценен, потому что эти люди — пассионарии, когда они действительно хотят достичь результата.
Свой летний отпуск половина преподавателей Высшей школы менеджмента проводят на практиках и проектах вместе со студентами, в общении с методистами по всей России, и после этого приходят в аудитории 1 сентября со словами: «Ну что, ребята, погнали! Начинаем новый сезон». Вот это я называю единством людей, которые хотят достичь результата. Может быть, это синдром бизнес-школы, потому что здесь ты работаешь на результат и знаешь, что твой результат оценят. А это дорогого стоит.
Мы, как и многие университеты, проводим замеры обратной связи о качестве преподавания. Причем делаем это с какой-то маниакальной регулярностью, но иначе бы мы, наверное, не входили в 1% лучших бизнес-школ мира. Во-первых, это элемент культуры, а во-вторых, нам самим это важно для управления и развития. Так вот, у нас есть преподаватель, иностранец, у которого по результатам обратной связи за последние 10 лет лучшие оценки по всем его дисциплинам. Я была у него на лекции — он потрясающий специалист, и спросила у него: «Скажи, пожалуйста, что ты делаешь, что у тебя по всем твоим дисциплинам высший балл от студентов?». Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Знаешь, я люблю свою работу». У него тоже загрузка, отчетность, сложные задачи, и в сутках у него тоже 24 часа, но он любит свою работу. Вот когда каждый из нас и в бизнесе, и в университете скажет: «Я люблю свою работу», тогда у нас все будет получаться хорошо.
01 октября / 2025
Интервью провели: Александр Никифоров, Екатерина Позднякова
Текст подготовила: Екатерина Позднякова
Материал подготовлен редакцией издания «Ректор говорит!». При копировании ссылка на издание «Ректор говорит!» обязательна.
Текст подготовила: Екатерина Позднякова
Материал подготовлен редакцией издания «Ректор говорит!». При копировании ссылка на издание «Ректор говорит!» обязательна.
[ Рассылка ]
Каждую неделю — новый материал
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, сенсационных научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, сенсационных научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Подписаться на рассылку
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми получать актуальную информацию о высшем образовании от руководства учебных и научных организаций, экспертов в области высшего образования и представителей профильных министерств.