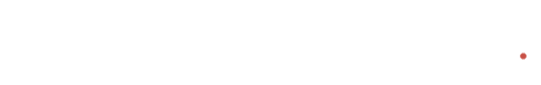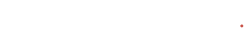Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Отправляя форму, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
«Если университеты не будут вести исследования послезавтрашнего дня — развитие науки и технологий остановится»
Интервью с первым проректором Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» Сергеем Салиховым.
Почему университету важно не «разворачиваться», а двигаться вперед в приоритетных направлениях? Какова роль сильной фундаментальной подготовки в цифровую эпоху и как из детской мечты создаются реальные научные прорывы? Об этом — в интервью с первым проректором Университета МИСИС Сергеем Салиховым.
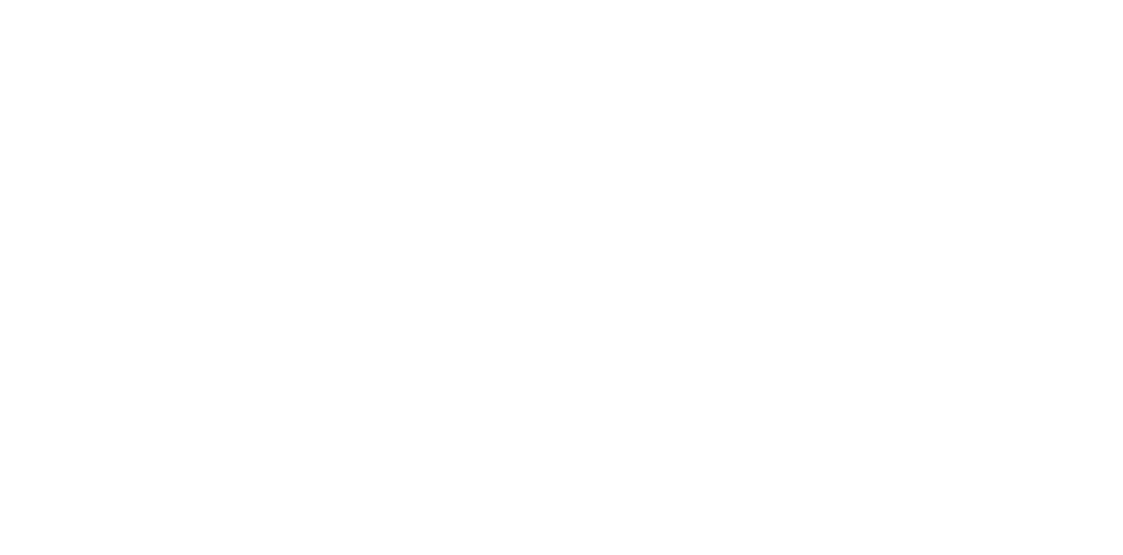

— Сергей Владимирович, сегодня Университет МИСИС позиционирует себя как научно-образовательная среда, где создаются новации и растят новаторов в разных областях наук. Какую работу провел университет, чтобы выйти на этот уровень с учетом его 100-летней истории и традиционно сложившихся ассоциаций с направлениями металлургии и горного дела?
— Да, исторически мы долгое время ассоциировались с этими направлениями.
Мы отсчитываем историю университета с 1918 года, когда была образована Московская горная академия. Позже в ходе профилизации она была разделена на пять институтов, один из которых планировалось назвать институтом черной металлургии. Однако первый ректор нового вуза, Авраамий Павлович Завенягин, впоследствии один из главных руководителей советского атомного проекта, а тогда — 29-летний только что окончивший металлургический факультет академии молодой руководитель, прямо в день своего назначения дальновидно отметил, что название имеет значение, в вузе с названием «институт черной металлургии» никто не захочет учиться и вести набор будет сложно. Черная металлургия ассоциировалась с тяжелым трудом, с тяжелыми условиями работы.
Идея назваться институтом стали в 1930-е годы была удачной с точки зрения позиционирования: это звучало как нечто передовое, прогрессивное. Это был первый ребрендинг в вузовской среде, он был связан с актуальной ситуацией и необходимостью решать конкретные задачи для страны — готовить инженерные и руководящие кадры для металлургической промышленности.
Всю нашу историю мы всегда, несмотря на название, решали самые широкие задачи для страны, опережая время
В институте стали, на физико-химическом факультете, впервые была создана кафедра теоретической физики, которую потом возглавил будущий Нобелевский лауреат Алексей Алексеевич Абрикосов. До последнего времени это была вообще единственная кафедра теоретической физики в технических вузах. Помимо металлургии, институт нацелился на атомную промышленность, потому как атомный проект во многом жил благодаря материалам, сталям и сплавам. МИСИС, наряду с МИФИ и МФТИ, фактически поддерживали и снабжали кадрами всю атомную отрасль в стране.
Следующий вызов случился в 1960-е, в период расцвета электроники и кибернетики. Тогда был создан институт полупроводниковых материалов и приборов.
— Да, исторически мы долгое время ассоциировались с этими направлениями.
Мы отсчитываем историю университета с 1918 года, когда была образована Московская горная академия. Позже в ходе профилизации она была разделена на пять институтов, один из которых планировалось назвать институтом черной металлургии. Однако первый ректор нового вуза, Авраамий Павлович Завенягин, впоследствии один из главных руководителей советского атомного проекта, а тогда — 29-летний только что окончивший металлургический факультет академии молодой руководитель, прямо в день своего назначения дальновидно отметил, что название имеет значение, в вузе с названием «институт черной металлургии» никто не захочет учиться и вести набор будет сложно. Черная металлургия ассоциировалась с тяжелым трудом, с тяжелыми условиями работы.
Идея назваться институтом стали в 1930-е годы была удачной с точки зрения позиционирования: это звучало как нечто передовое, прогрессивное. Это был первый ребрендинг в вузовской среде, он был связан с актуальной ситуацией и необходимостью решать конкретные задачи для страны — готовить инженерные и руководящие кадры для металлургической промышленности.
Всю нашу историю мы всегда, несмотря на название, решали самые широкие задачи для страны, опережая время
В институте стали, на физико-химическом факультете, впервые была создана кафедра теоретической физики, которую потом возглавил будущий Нобелевский лауреат Алексей Алексеевич Абрикосов. До последнего времени это была вообще единственная кафедра теоретической физики в технических вузах. Помимо металлургии, институт нацелился на атомную промышленность, потому как атомный проект во многом жил благодаря материалам, сталям и сплавам. МИСИС, наряду с МИФИ и МФТИ, фактически поддерживали и снабжали кадрами всю атомную отрасль в стране.
Следующий вызов случился в 1960-е, в период расцвета электроники и кибернетики. Тогда был создан институт полупроводниковых материалов и приборов.
— А сегодня какие направления для вас наиболее актуальны?
— Сейчас университет представляет собой крупный научно-образовательный комплекс, где наряду с традиционными для нас направлениями «Горное дело», «Металлургия», «Материаловедение» мы создаем новые институты, чье развитие с точки зрения расширения тематик сейчас идет со стремительной скоростью.
Первое направление связано с созданием сверхпроводниковой платформы для квантовых вычислений, или компьютеров на сверхпроводящих кубитах нового типа. Такими технологиями кубитов-флаксониумов владеют всего три страны в мире.
В ходе развития области сплавов с памятью формы возникло еще одно исторически понятное для нас направление «Биомедицинские материалы».
Кроме того, металлургия, горное дело требуют инженеров, которые хорошо владеют цифровыми технологиями, могут работать с цифровыми двойниками и безлюдными производствами, поэтому в области цифровых технологий мы тоже становимся ведущим в России научным центром.
— Сейчас университет представляет собой крупный научно-образовательный комплекс, где наряду с традиционными для нас направлениями «Горное дело», «Металлургия», «Материаловедение» мы создаем новые институты, чье развитие с точки зрения расширения тематик сейчас идет со стремительной скоростью.
Первое направление связано с созданием сверхпроводниковой платформы для квантовых вычислений, или компьютеров на сверхпроводящих кубитах нового типа. Такими технологиями кубитов-флаксониумов владеют всего три страны в мире.
В ходе развития области сплавов с памятью формы возникло еще одно исторически понятное для нас направление «Биомедицинские материалы».
Кроме того, металлургия, горное дело требуют инженеров, которые хорошо владеют цифровыми технологиями, могут работать с цифровыми двойниками и безлюдными производствами, поэтому в области цифровых технологий мы тоже становимся ведущим в России научным центром.
«...именно в университетах сосредоточена активная, умная, талантливая молодежь, которая не боится воплощать свои яркие, смелые идеи про будущее. Вот поэтому, мне кажется, в университетах и будут рождаться технологии, которые могут заинтересовать компании с точки зрения развития бизнеса».
— Как вы преодолеваете возникающие противоречия между индустриальной средой, для которой кадры и разработки нужны сегодня, здесь и сейчас, и академической, где подготовка специалистов и исследования ведутся вдолгую?
— Думаю, никакого противоречия здесь нет.
Я убежден, что если университеты не будут вести исследования послезавтрашнего дня, то развитие науки и технологий остановится. Приведу в пример разработку Университета МИСИС, созданную в 2024 году, — «тканевой пистолет». Это устройство, которое позволяет останавливать кровотечение и заживлять глубокие порезы при ранениях легкой и средней степени тяжести в негоспитальных условиях, когда нет возможности стабилизировать пациента. Партия устройств сейчас используется в военно-полевых условиях и зарекомендовала себя как одно из важнейших средств для оперативного оказания первой помощи. Так вот прототип «тканевого пистолета» возник из идеи молодых ребят, наших студентов, повторить бластер из фильма «Звездные войны». После консультаций с заказчиками по техническим требованиям устройство приобрело промышленный вид, но изначальная задумка была вдохновлена фактически «игрушкой».
Все это стало возможным, потому что именно в университетах сосредоточена активная, умная, талантливая молодежь, которая не боится воплощать свои яркие, смелые идеи про будущее. Вот поэтому, мне кажется, в университетах и будут рождаться технологии, которые могут заинтересовать компании с точки зрения развития бизнеса.
— Думаю, никакого противоречия здесь нет.
Я убежден, что если университеты не будут вести исследования послезавтрашнего дня, то развитие науки и технологий остановится. Приведу в пример разработку Университета МИСИС, созданную в 2024 году, — «тканевой пистолет». Это устройство, которое позволяет останавливать кровотечение и заживлять глубокие порезы при ранениях легкой и средней степени тяжести в негоспитальных условиях, когда нет возможности стабилизировать пациента. Партия устройств сейчас используется в военно-полевых условиях и зарекомендовала себя как одно из важнейших средств для оперативного оказания первой помощи. Так вот прототип «тканевого пистолета» возник из идеи молодых ребят, наших студентов, повторить бластер из фильма «Звездные войны». После консультаций с заказчиками по техническим требованиям устройство приобрело промышленный вид, но изначальная задумка была вдохновлена фактически «игрушкой».
Все это стало возможным, потому что именно в университетах сосредоточена активная, умная, талантливая молодежь, которая не боится воплощать свои яркие, смелые идеи про будущее. Вот поэтому, мне кажется, в университетах и будут рождаться технологии, которые могут заинтересовать компании с точки зрения развития бизнеса.
Второй момент: в любых компаниях есть свой флагманский продукт, а есть массовые линейки. Технологии, предложенные университетом, для них могут быть оптимальным решением. Например, при внедрении аддитивной печати на металлургическом производстве основная масса проблем связана с получением продукта с определенным комплексом свойств. Возникает множество вопросов с нормативной документацией, с обоснованием возможностей использования, экономические сложности. У производства при всем интересе к этим технологиям просто нет возможности заниматься такими вещами в рамках своей операционной деятельности. Университеты же на конкретных задачах, которые возникают у индустриальных партнеров, одновременно осуществляют и подготовку кадров под их требования, и исследования в нужных направлениях.
Ключевым моментом здесь является необходимость того, чтобы университет работал с несколькими компаниями, с целым конгломератом отраслей и понимал, какие знания, компетенции он даст своим выпускникам для того, чтобы они смогли правильно управлять своей карьерой в будущем, качественно решать рабочие задачи и в конечном счете — быть счастливыми.
Ключевым моментом здесь является необходимость того, чтобы университет работал с несколькими компаниями, с целым конгломератом отраслей и понимал, какие знания, компетенции он даст своим выпускникам для того, чтобы они смогли правильно управлять своей карьерой в будущем, качественно решать рабочие задачи и в конечном счете — быть счастливыми.
— Привело ли сокращение возможностей импорта готовой продукции и технологий к резкой интенсификации вашего взаимодействия с индустриальными партнерами?
— В таких больших консервативных отраслях, как металлургия и атомная промышленность, с которыми мы работаем, зависимость от импортных технологий не была такой сильной просто за счет эффекта масштаба. А вот в биомедицине действительно проявляется всплеск задач по быстрому импортозамещению от врачебных организаций и компаний-производителей медицинских изделий и техники.
— В таких больших консервативных отраслях, как металлургия и атомная промышленность, с которыми мы работаем, зависимость от импортных технологий не была такой сильной просто за счет эффекта масштаба. А вот в биомедицине действительно проявляется всплеск задач по быстрому импортозамещению от врачебных организаций и компаний-производителей медицинских изделий и техники.
«...сильные фундаментальные знания наших студентов — это гарантия быстрой адаптации университета в будущем».
— Как вы встраиваетесь в долгосрочные технологические приоритеты своих крупных отраслевых заказчиков, особенно госкорпораций? Как под это адаптируете образовательные программы?
— Построить и сохранять устойчивые связи со своими ключевыми заказчиками важно на уровне принятия решений и понимания того, что происходит в компаниях. Я, например, включен в научно-технические советы наших крупных партнеров: «Металлоинвест» и «Росатом». Это позволяет быстро адаптироваться и вводить в образовательные программы новые блоки и дисциплины
При этом мы понимаем, что на первой ступени образования невозможно давать студентам только те знания, которые прямо сейчас нужны работодателям. Нужна хорошая фундаментальная подготовка. Повышение ее уровня для университета является базой и гарантией того, что он сумеет быстро адаптироваться к запросам работодателя.
Здесь мы находимся в неком противоречии между современными трендами и ожиданиями выпускников, которые хотят прийти на первый курс в университет 1 сентября и уже буквально 2-го быть нарасхват на рынке труда. Зачем еще нужно изучать философию, историю, теорию познания, интегральное исчисление и другие области и разделы знаний, которые, как им кажется, точно нигде в жизни не пригодятся?
Для преодоления этого противоречия наша новая образовательная модель базируется на сильнейшей фундаментальной подготовке, прежде всего по физике, математике и гуманитарному циклу, на увеличении практической направленности на старших курсах и на постоянной связи с работодателями по адаптации образовательных программ и формированию образовательного результата.
Мы начали большой проект по изменению подготовки по физике, поскольку для нас это одна из самых критичных областей. На должность заведующего кафедры университет пригласил известного ученого, главного научного сотрудника Института физических проблем им. П. Л. Капицы РАН Василия Николаевича Глазкова. Изменения также коснулись подготовки по математике, кафедру по этой дисциплине в НИТУ МИСИС возглавляет член-корреспондент РАН Алексей Александрович Давыдов. Мы уделяем этому крайне серьезное внимание, потому что считаем, что сильные фундаментальные знания наших студентов — это гарантия быстрой адаптации университета в будущем.
Увеличиваем количество практик и стажировок, в том числе в тех компаниях, где, предполагается, будут работать наши выпускники. Для этого создали информационную систему, которая позволяет совместно с работодателями регулярно анализировать учебные планы. Планируем организовать экспертные советы, в рамках которых руководители из компаний смогут анализировать не просто содержание учебных планов, но и конкретные рабочие программы дисциплин, давать свои рекомендации.
Все вместе это позволяет нам находиться в авангарде качественной подготовки выпускников.
— Построить и сохранять устойчивые связи со своими ключевыми заказчиками важно на уровне принятия решений и понимания того, что происходит в компаниях. Я, например, включен в научно-технические советы наших крупных партнеров: «Металлоинвест» и «Росатом». Это позволяет быстро адаптироваться и вводить в образовательные программы новые блоки и дисциплины
При этом мы понимаем, что на первой ступени образования невозможно давать студентам только те знания, которые прямо сейчас нужны работодателям. Нужна хорошая фундаментальная подготовка. Повышение ее уровня для университета является базой и гарантией того, что он сумеет быстро адаптироваться к запросам работодателя.
Здесь мы находимся в неком противоречии между современными трендами и ожиданиями выпускников, которые хотят прийти на первый курс в университет 1 сентября и уже буквально 2-го быть нарасхват на рынке труда. Зачем еще нужно изучать философию, историю, теорию познания, интегральное исчисление и другие области и разделы знаний, которые, как им кажется, точно нигде в жизни не пригодятся?
Для преодоления этого противоречия наша новая образовательная модель базируется на сильнейшей фундаментальной подготовке, прежде всего по физике, математике и гуманитарному циклу, на увеличении практической направленности на старших курсах и на постоянной связи с работодателями по адаптации образовательных программ и формированию образовательного результата.
Мы начали большой проект по изменению подготовки по физике, поскольку для нас это одна из самых критичных областей. На должность заведующего кафедры университет пригласил известного ученого, главного научного сотрудника Института физических проблем им. П. Л. Капицы РАН Василия Николаевича Глазкова. Изменения также коснулись подготовки по математике, кафедру по этой дисциплине в НИТУ МИСИС возглавляет член-корреспондент РАН Алексей Александрович Давыдов. Мы уделяем этому крайне серьезное внимание, потому что считаем, что сильные фундаментальные знания наших студентов — это гарантия быстрой адаптации университета в будущем.
Увеличиваем количество практик и стажировок, в том числе в тех компаниях, где, предполагается, будут работать наши выпускники. Для этого создали информационную систему, которая позволяет совместно с работодателями регулярно анализировать учебные планы. Планируем организовать экспертные советы, в рамках которых руководители из компаний смогут анализировать не просто содержание учебных планов, но и конкретные рабочие программы дисциплин, давать свои рекомендации.
Все вместе это позволяет нам находиться в авангарде качественной подготовки выпускников.
— Поговорим о программах и проектах, которые способствуют укреплению взаимодействия университетов и индустрии, — это прежде всего «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы». Многие ректоры отмечают, что благодаря участию в них у вузов появились возможности развивать направления, которые бы без этой поддержки они никогда бы не рискнули реализовать. А еще — как Вы сказали, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в этом году, — мотивируют фокусироваться на конкретных задачах, на проектах технологического лидерства. Как развернуть такой «корабль», как университет, на ходу, чтобы он всеми ресурсами вложился в конкретные проекты?
— Мне кажется ошибкой думать, что университет нужно при этом «разворачивать». Что такое приоритет? Не программа, а приоритет как понятие. Это нечто, что имеет первоочередное значение при принятии решений. Если вы, например, решаете купить новый автомобиль, это же не означает, что вы прекращаете покупать себе еду и одежду. Вы определяете, что эта покупка является для вас приоритетом на ближайшее время, и поэтому часть своего дохода вы будете направлять на эту цель. То же самое с университетом. Такие программы, как «Приоритет-2030», я рассматриваю как ориентир, который позволяет создавать и продвигать институциональные изменения, влияющие на весь университет, создающие новую культуру работы и объединяющие коллектив в тех направлениях, в которых необходимо двигаться. А еще это возможность использовать продуктовый подход. Мы стали применять его в том смысле, что исследования, которые финансируются в рамках «Приоритета-2030», должны приводить к созданию конкретных продуктов.
Я вообще считаю, что в настоящее время это единственная программа, которая позволяет университетам развиваться. Все остальное финансирование, которое так или иначе есть в университетах, — целевое.
— Мне кажется ошибкой думать, что университет нужно при этом «разворачивать». Что такое приоритет? Не программа, а приоритет как понятие. Это нечто, что имеет первоочередное значение при принятии решений. Если вы, например, решаете купить новый автомобиль, это же не означает, что вы прекращаете покупать себе еду и одежду. Вы определяете, что эта покупка является для вас приоритетом на ближайшее время, и поэтому часть своего дохода вы будете направлять на эту цель. То же самое с университетом. Такие программы, как «Приоритет-2030», я рассматриваю как ориентир, который позволяет создавать и продвигать институциональные изменения, влияющие на весь университет, создающие новую культуру работы и объединяющие коллектив в тех направлениях, в которых необходимо двигаться. А еще это возможность использовать продуктовый подход. Мы стали применять его в том смысле, что исследования, которые финансируются в рамках «Приоритета-2030», должны приводить к созданию конкретных продуктов.
Я вообще считаю, что в настоящее время это единственная программа, которая позволяет университетам развиваться. Все остальное финансирование, которое так или иначе есть в университетах, — целевое.
— Иными словами, когда в университете появляется приоритетный проект, все остальные задачи никуда не исчезают.
— Это очень важно понимать, чтобы не создавалось ощущение, что, например, в Университете МИСИС теперь все занимаются только квантовыми технологиями и биомедом. Нет, это не так. Мы также по-прежнему занимаемся углями, получением игольчатого кокса, сталями — и делаем это уже на протяжении ста лет. У нас работают сложившиеся научные коллективы в этих направлениях, — пожалуй, лучшие в мире. Как я их могу поддержать сейчас? Только новыми контрактами с «Северсталью», «Металлинвестом» и другими партнёрами.
— Это очень важно понимать, чтобы не создавалось ощущение, что, например, в Университете МИСИС теперь все занимаются только квантовыми технологиями и биомедом. Нет, это не так. Мы также по-прежнему занимаемся углями, получением игольчатого кокса, сталями — и делаем это уже на протяжении ста лет. У нас работают сложившиеся научные коллективы в этих направлениях, — пожалуй, лучшие в мире. Как я их могу поддержать сейчас? Только новыми контрактами с «Северсталью», «Металлинвестом» и другими партнёрами.
— Какие компетенции должны быть у управленческой команды университета, чтобы разговаривать с индустрией на одном языке?
— Проблема поиска общего языка будет становиться все легче по той причине, что предыдущие 20 лет промышленность была ориентирована на закупку и эксплуатацию готовых технологий. То небольшое количество компаний, которые строили в тот период заводы, делали это на импортируемых технологиях. Отечественных промышленных разработок с нуля практически не было, во всяком случае таких, чтобы можно было ими гордиться, поэтому у бизнеса не было необходимости двигаться навстречу науке. Государство запустило множество различных механизмов и инструментов по их сближению. Это и технологические платформы, и программы инновационного развития, различные виды федеральных целевых программ (ФЦП). Мне кажется, дальше на этом двухстороннем пути движения мы будем совместно достигать уже каких-то конкретных результатов, нежели просто думать о том, как сближать наши семантические пространства.
— Проблема поиска общего языка будет становиться все легче по той причине, что предыдущие 20 лет промышленность была ориентирована на закупку и эксплуатацию готовых технологий. То небольшое количество компаний, которые строили в тот период заводы, делали это на импортируемых технологиях. Отечественных промышленных разработок с нуля практически не было, во всяком случае таких, чтобы можно было ими гордиться, поэтому у бизнеса не было необходимости двигаться навстречу науке. Государство запустило множество различных механизмов и инструментов по их сближению. Это и технологические платформы, и программы инновационного развития, различные виды федеральных целевых программ (ФЦП). Мне кажется, дальше на этом двухстороннем пути движения мы будем совместно достигать уже каких-то конкретных результатов, нежели просто думать о том, как сближать наши семантические пространства.
«Университет — это место, где лучшие профессора и лучшие студенты реализуют свои возможности в имеющихся или в создаваемых условиях».
— Вы рассказали о смелой, неординарной идее ваших молодых разработчиков, об известных ученых, приглашенных для усиления ваших кафедр. Чем вы привлекаете талантливых людей на уровне не только возможностей, которые предоставляет университет, но и мотивации?
— Не то чтобы у нас есть с этим проблемы. Средний балл ЕГЭ поступающих в МИСИС — 90,07. Выше уже практически невозможно. А дальше молодым людям надо ставить интересные задачи. Я сам преподаю и слышу от студентов: «Хотим к вам на биомедицину, чтобы изобрести лекарство от рака». Это может показаться наивной, почти детской мечтой, но, не обладая такой мечтой, потом будет сложно работать, когда выяснится, что лекарство ты, скорее всего, не создашь, а будешь тестировать готовое и только его эффективность, но зато на одной клетке. Интерес к задаче при этом должен не пропасть, а для этого нужно искреннее желание этим заниматься, то есть вера в ту самую детскую мечту сделать что-то значимое.
Интересность задач, в свою очередь, говорит о том, кто ими занимается. Университет — это место, где лучшие профессора и лучшие студенты реализуют свои возможности в имеющихся или в создаваемых условиях. Важно, чтобы это были лучшие специалисты в своем деле — это второй ключевой критерий привлечения талантов. И третье, что университеты могут сделать, — это создавать необходимую инфраструктуру. Не ограничиваться покупкой суперкомпьютера. Хорошая столовая в кампусе, на самом деле, не менее важна. Уж если мы инвестируем в оборудование, в лаборатории, то это же нужно делать и для создания комфортной среды в университете.
— Не то чтобы у нас есть с этим проблемы. Средний балл ЕГЭ поступающих в МИСИС — 90,07. Выше уже практически невозможно. А дальше молодым людям надо ставить интересные задачи. Я сам преподаю и слышу от студентов: «Хотим к вам на биомедицину, чтобы изобрести лекарство от рака». Это может показаться наивной, почти детской мечтой, но, не обладая такой мечтой, потом будет сложно работать, когда выяснится, что лекарство ты, скорее всего, не создашь, а будешь тестировать готовое и только его эффективность, но зато на одной клетке. Интерес к задаче при этом должен не пропасть, а для этого нужно искреннее желание этим заниматься, то есть вера в ту самую детскую мечту сделать что-то значимое.
Интересность задач, в свою очередь, говорит о том, кто ими занимается. Университет — это место, где лучшие профессора и лучшие студенты реализуют свои возможности в имеющихся или в создаваемых условиях. Важно, чтобы это были лучшие специалисты в своем деле — это второй ключевой критерий привлечения талантов. И третье, что университеты могут сделать, — это создавать необходимую инфраструктуру. Не ограничиваться покупкой суперкомпьютера. Хорошая столовая в кампусе, на самом деле, не менее важна. Уж если мы инвестируем в оборудование, в лаборатории, то это же нужно делать и для создания комфортной среды в университете.
«... у детей, которые приходят к нам учиться, навыки нестандартного мышления развиты гораздо сильнее, чем это было 25 лет назад».
— По Вашим наблюдениям, в том числе как преподавателя, контринтуитивное мышление, умение думать нешаблонно — это то, с чем молодые люди уже поступают в университет? Или академическая среда должна помочь сформировать эти навыки?
— Университет должен формировать мышление вообще: и контринтуитивное, и критическое. Для этого и нужна фундаментальная подготовка, в том числе ее гуманитарная составляющая.
Могу сказать, что сейчас есть ощущение, что у детей, которые приходят к нам учиться, навыки нестандартного мышления развиты гораздо сильнее, чем это было 25 лет назад. Наверное, это заслуга семьи, родителей, активной внеучебной деятельности. Мы действительно сейчас работаем, скажем так, не с «пустым материалом», и это очень привлекательно.
— Университет должен формировать мышление вообще: и контринтуитивное, и критическое. Для этого и нужна фундаментальная подготовка, в том числе ее гуманитарная составляющая.
Могу сказать, что сейчас есть ощущение, что у детей, которые приходят к нам учиться, навыки нестандартного мышления развиты гораздо сильнее, чем это было 25 лет назад. Наверное, это заслуга семьи, родителей, активной внеучебной деятельности. Мы действительно сейчас работаем, скажем так, не с «пустым материалом», и это очень привлекательно.
«...успех современной науки заключается в том, чтобы изобретения ученых дошли до каждого человека и мы все смогли бы воспользоваться ими»
— Какие достижения в областях, в которых МИСИС ведет исследования (квантовые технологии, биомедицинские материалы), Вы полагаете, окажут наибольшее влияние на отрасли экономики, а возможно, и совершат прорыв в некоторых из них?
—Я не футуролог и могу лишь сказать, что голубая мечта человечества — это жить качественно, поэтому, скорее всего, биотехнологии дадут нам какое-то наиболее понятное решение. Но оно должно носить «ритейловый» характер, то есть коснуться сотен миллионов людей. Вот когда для миллионов людей отпадет необходимость делать вторую и последующие операции по извлечению винтов для фиксации костей после переломов, — это и будет настоящей победой биотехнологических решений и продуктов. Пока на индивидуальных операциях все выглядит очень перспективно, но для того, чтобы это ощутили миллионы, нужны тиражи. В этом смысле я считаю, что успех современной науки заключается в том, чтобы изобретения ученых дошли до каждого человека и мы все смогли бы воспользоваться ими.
—Я не футуролог и могу лишь сказать, что голубая мечта человечества — это жить качественно, поэтому, скорее всего, биотехнологии дадут нам какое-то наиболее понятное решение. Но оно должно носить «ритейловый» характер, то есть коснуться сотен миллионов людей. Вот когда для миллионов людей отпадет необходимость делать вторую и последующие операции по извлечению винтов для фиксации костей после переломов, — это и будет настоящей победой биотехнологических решений и продуктов. Пока на индивидуальных операциях все выглядит очень перспективно, но для того, чтобы это ощутили миллионы, нужны тиражи. В этом смысле я считаю, что успех современной науки заключается в том, чтобы изобретения ученых дошли до каждого человека и мы все смогли бы воспользоваться ими.
— Сергей Владимирович, в заключение вопрос о том, как заинтересовать наукой с детства. В Вашей книге «Физика всего на свете без формул», написанной в соавторстве с Дмитрием Викторовичем Ливановым, приведено высказывание Э. Резерфорда о том, что «все науки делятся на две группы — физику и коллекционирование марок». На Ваш взгляд, утерянный интерес школьников к фундаментальной для понимания природы науке — это следствие только лишь педагогических упущений?
— Если мы говорим про валовый показатель, про количество детей, не просто увлеченных, в том числе физикой, но и тех, кто могут как-то реализовать свои увлечения, — сейчас их, безусловно, больше, чем в советское время. Мы видим это по различным бизнесам, которые возникают в этом направлении, — посмотрите, что происходит в коммерческих музеях занимательных наук, по популярности фестивалей науки, где полно детей. Тираж книги по физике, о которой вы сказали и которую мы вместе с ректором МФТИ написали для широкой аудитории, допечатывается уже третий год после издания. Это означает, что она постоянно продается. Как и многие другие подобные книги.
С другой стороны, уровень подготовки по физике в школах катастрофически снижается, и главная причина тому — квалификация учителей. Это связано с тем, что для поступления в педагогические вузы на обучение профессии учителя физики даже не надо сдавать ЕГЭ по этому предмету. Если ребенок в школе вообще не интересовался физикой, как он может ее преподавать?
Сейчас в школах много молодых учителей, которые выпускались из университетов 5–10 лет назад, и среди них много не просто немотивированных, а еще и плохо подготовленных педагогов, которые не обращают внимания на очень важные моменты в обучении физике, или, еще хуже, несут ученикам ошибочные физические теории.
— Если мы говорим про валовый показатель, про количество детей, не просто увлеченных, в том числе физикой, но и тех, кто могут как-то реализовать свои увлечения, — сейчас их, безусловно, больше, чем в советское время. Мы видим это по различным бизнесам, которые возникают в этом направлении, — посмотрите, что происходит в коммерческих музеях занимательных наук, по популярности фестивалей науки, где полно детей. Тираж книги по физике, о которой вы сказали и которую мы вместе с ректором МФТИ написали для широкой аудитории, допечатывается уже третий год после издания. Это означает, что она постоянно продается. Как и многие другие подобные книги.
С другой стороны, уровень подготовки по физике в школах катастрофически снижается, и главная причина тому — квалификация учителей. Это связано с тем, что для поступления в педагогические вузы на обучение профессии учителя физики даже не надо сдавать ЕГЭ по этому предмету. Если ребенок в школе вообще не интересовался физикой, как он может ее преподавать?
Сейчас в школах много молодых учителей, которые выпускались из университетов 5–10 лет назад, и среди них много не просто немотивированных, а еще и плохо подготовленных педагогов, которые не обращают внимания на очень важные моменты в обучении физике, или, еще хуже, несут ученикам ошибочные физические теории.
«Вопрос: что вы лично сами делали собственными руками в своей работе, — я вас уверяю, — самый сложный».
— При этом интерес, любознательность у ребенка, восторг от увиденного эксперимента никуда не делись. Вот поэтому дети получают все это в музеях, понятно и увлекательно написанных книгах, на различных фестивалях науки и в других популяризаторских проектах, которых сейчас довольно много. Или взять, например, видеоподкасты ученых А. М. Семихатова или В. Г. Сурдина, которые рассказывают о квантовых парадоксах, черных дырах, Вселенной и о том, что такое время. У них миллионы просмотров! Значит, это интересно молодой аудитории.
— Думаю, ситуация в школах будет исправляться благодаря различным социальным проектам, которые сейчас стартуют с участием учителей. Важная роль вузов заключается в том, что нам надо объединить усилия и сделать большие программы повышения квалификации для учителей-предметников.
Второй момент: использовать проектную деятельность учеников в другом ключе, нежели это делается сейчас. Большинство проектов заключаются либо в написании рефератов, либо в предоставлении в классе результатов работы родителей. Мы в МИСИС решили действовать по-другому: взяли к себе 7 таких проектов по биофизике из обычной московской школы. Выполнявшие их девятиклассники в течение семестра приходили к нам каждую неделю в лабораторию и там делали свои проекты. Наша основная задача была не подобрать нужный уровень сложности, а создать условия, чтобы ребенок сам понимал, что он в этом проекте делает. Вопрос: что вы лично сами делали собственными руками в своей работе, — я вас уверяю, — самый сложный. Мне кажется, это интересное направление, и за этим будущее.
— Думаю, ситуация в школах будет исправляться благодаря различным социальным проектам, которые сейчас стартуют с участием учителей. Важная роль вузов заключается в том, что нам надо объединить усилия и сделать большие программы повышения квалификации для учителей-предметников.
Второй момент: использовать проектную деятельность учеников в другом ключе, нежели это делается сейчас. Большинство проектов заключаются либо в написании рефератов, либо в предоставлении в классе результатов работы родителей. Мы в МИСИС решили действовать по-другому: взяли к себе 7 таких проектов по биофизике из обычной московской школы. Выполнявшие их девятиклассники в течение семестра приходили к нам каждую неделю в лабораторию и там делали свои проекты. Наша основная задача была не подобрать нужный уровень сложности, а создать условия, чтобы ребенок сам понимал, что он в этом проекте делает. Вопрос: что вы лично сами делали собственными руками в своей работе, — я вас уверяю, — самый сложный. Мне кажется, это интересное направление, и за этим будущее.
05 августа / 2025
Интервью провели: Александр Никифоров, Екатерина Позднякова
Текст подготовила: Екатерина Позднякова
Материал подготовлен редакцией издания «Ректор говорит!». При копировании ссылка на издание «Ректор говорит!» обязательна.
Текст подготовила: Екатерина Позднякова
Материал подготовлен редакцией издания «Ректор говорит!». При копировании ссылка на издание «Ректор говорит!» обязательна.
[ Рассылка ]
Каждую неделю — новый материал
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, сенсационных научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, сенсационных научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Подписаться на рассылку
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми получать актуальную информацию о высшем образовании от руководства учебных и научных организаций, экспертов в области высшего образования и представителей профильных министерств.