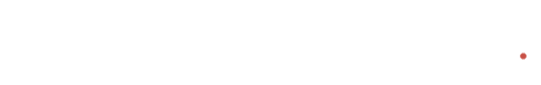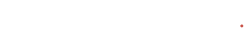Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Отправляя форму, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
«Если вы хотите посмотреть, что вуз из себя представляет и каких студентов готовит, — придите к ним на защиту дипломных проектов»
Интервью с ректором Института бизнеса и дизайна Сергеем Юровым.
Креативные индустрии — это не творческое хобби, а экономика. Как готовят специалистов для этой сферы? И почему диплом здесь уже не главное? Мы поговорили с ректором Института бизнеса и дизайна B&D Сергеем Юровым — о мифах вокруг частных вузов, карьерных стартах с первого курса и о том, что такое «бизнес-практика» как технология образования.
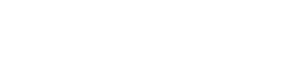
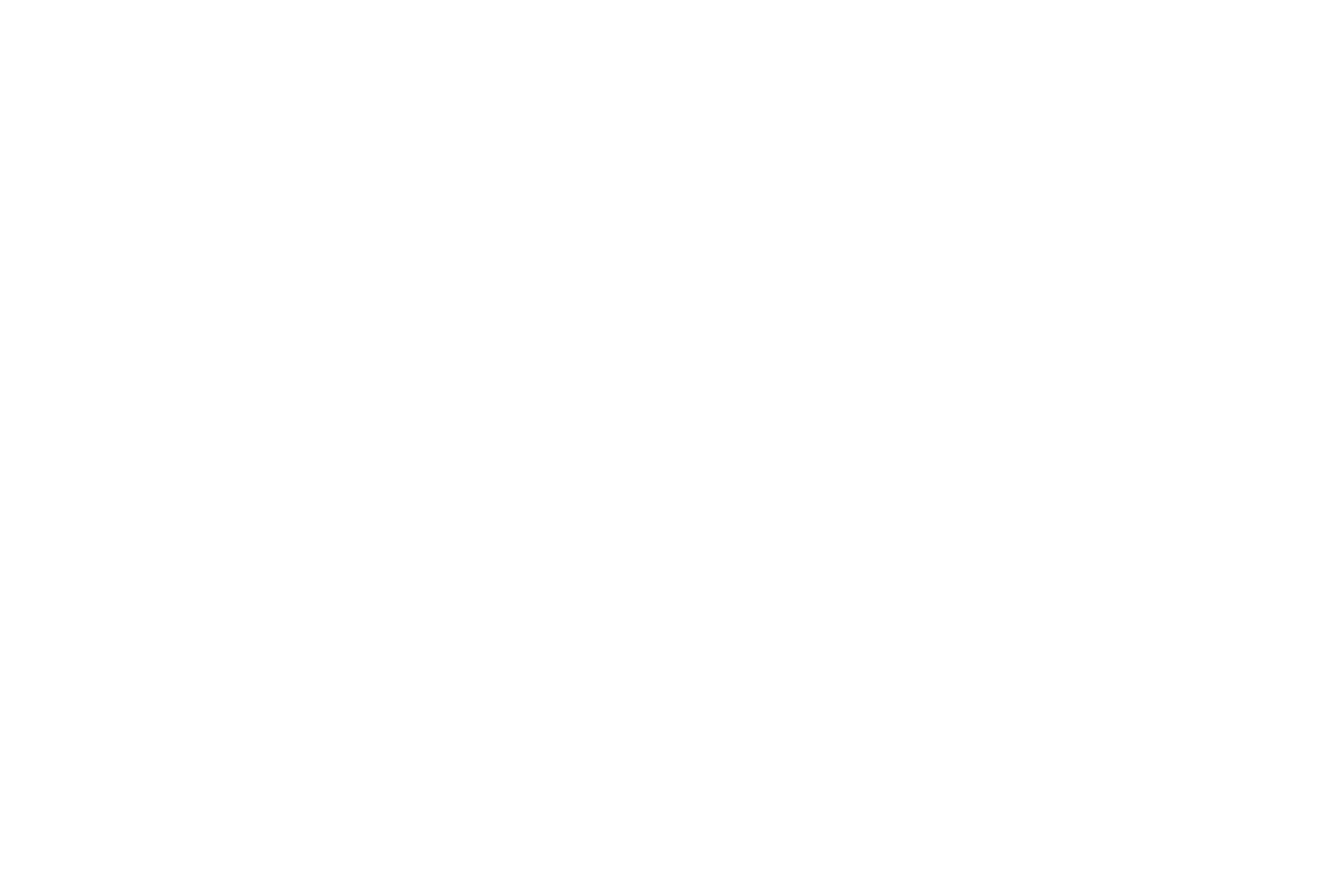
— Сергей Серафимович, разговор с Вами — это возможность наконец-то обсудить креативные индустрии, которые сейчас демонстрируют стабильный рост и для которых вы готовите специалистов. Причем делаете это со своим собственным подходом к бизнес-сотрудничеству. Но прежде — вкратце расскажите, пожалуйста, по каким принципам работает Институт бизнеса и дизайна?
— В этом году мы отмечаем 30-летие института — для частного вуза это большой срок. За это время мы сформировали три основных принципа работы. Главный среди них заключается в фундаментальном подходе к образованию. Независимо от того, учим ли мы дизайну или бизнесу, в основе мы закладываем базовые знания и уже потом надстраиваем к ним профессиональные дисциплины.
Второй принцип — практикоориентированность, работа с компаниями, присутствующими на рынке креативности. Третий наш принцип — давать студентам свободу творчества. Мы не ограничиваем их рамками конкретных заданий или определенных тем, каждый из них волен проводить исследования исходя из своих интересов, способностей и желаний.
— В этом году мы отмечаем 30-летие института — для частного вуза это большой срок. За это время мы сформировали три основных принципа работы. Главный среди них заключается в фундаментальном подходе к образованию. Независимо от того, учим ли мы дизайну или бизнесу, в основе мы закладываем базовые знания и уже потом надстраиваем к ним профессиональные дисциплины.
Второй принцип — практикоориентированность, работа с компаниями, присутствующими на рынке креативности. Третий наш принцип — давать студентам свободу творчества. Мы не ограничиваем их рамками конкретных заданий или определенных тем, каждый из них волен проводить исследования исходя из своих интересов, способностей и желаний.
«Вклад креативной экономики в ВВП России в 2024 году составил 4%, и тенденция такова, что в следующем году этот показатель удвоится».
— В 2025 г. креативные индустрии получили статус самостоятельного сектора экономики. Что он собой представляет?
— Вклад креативной экономики в ВВП России в 2024 году составил 4%, и тенденция такова, что в следующем году этот показатель удвоится. Впрочем, в некоторых развитых странах он достигает 30%.
Во многом на рост влияет бурное развитие цифровых технологий — одного из четырех направлений креативной экономики. К остальным трем относят историко-культурные индустрии, то есть народные промыслы, индустрии, связанные с произведениями литературы и искусства, и прикладные индустрии, вроде дизайна.
Исходя из этих направлений, наш институт готовит будущих специалистов в области дизайна среды, интерьера, геймдева, моды, цифрового и моушн-дизайна, иллюстрации, анимации. Также у нас есть направления подготовки по управленческим специальностям в креативных индустриях: визуальные коммуникации, маркетинг, бренд-менеджмент, продюсирование мультимедиа проектов.
— Вклад креативной экономики в ВВП России в 2024 году составил 4%, и тенденция такова, что в следующем году этот показатель удвоится. Впрочем, в некоторых развитых странах он достигает 30%.
Во многом на рост влияет бурное развитие цифровых технологий — одного из четырех направлений креативной экономики. К остальным трем относят историко-культурные индустрии, то есть народные промыслы, индустрии, связанные с произведениями литературы и искусства, и прикладные индустрии, вроде дизайна.
Исходя из этих направлений, наш институт готовит будущих специалистов в области дизайна среды, интерьера, геймдева, моды, цифрового и моушн-дизайна, иллюстрации, анимации. Также у нас есть направления подготовки по управленческим специальностям в креативных индустриях: визуальные коммуникации, маркетинг, бренд-менеджмент, продюсирование мультимедиа проектов.
— Все это, по сути, помогает создавать комфортную, удобную, насыщенную среду для повседневной жизни человека.
— Это и есть основная задача креативных индустрий — улучшать жизнь человека, делать ее более разнообразной, интересной, культурно богатой. Возьмем для примера Москву, где присутствуют все виды креативных индустрий, и для сравнения — небольшой периферийный город, где, как правило, есть отдельные индустрии, но зачастую гораздо более развитые, чем в столице. Я имею в виду народные промыслы, фольклор.
— Это и есть основная задача креативных индустрий — улучшать жизнь человека, делать ее более разнообразной, интересной, культурно богатой. Возьмем для примера Москву, где присутствуют все виды креативных индустрий, и для сравнения — небольшой периферийный город, где, как правило, есть отдельные индустрии, но зачастую гораздо более развитые, чем в столице. Я имею в виду народные промыслы, фольклор.
— Сталкиваетесь ли Вы как ректор с тем, что понятие «креативные индустрии» до сих пор могут воспринимать как танцы и вокальные номера на городских праздниках и только?
— Нет, не сталкивался. Во-первых, мы столичный вуз, к нам приходят люди уже подготовленные, знакомые с этим сектором экономики. А во-вторых, мы много общаемся с представителями креативных индустрий из регионов, чья область деятельности, конечно же, не ограничивается исполнительством.
— Нет, не сталкивался. Во-первых, мы столичный вуз, к нам приходят люди уже подготовленные, знакомые с этим сектором экономики. А во-вторых, мы много общаемся с представителями креативных индустрий из регионов, чья область деятельности, конечно же, не ограничивается исполнительством.
«Для работодателей нет никакой разницы, окончил специалист частный или государственный вуз, им важны навыки и компетенции, с которыми к ним приходят выпускники».
— Испытываете ли вы влияние каких-либо предубеждений как частный институт? Или ваших абитуриентов больше интересует программа обучения, а не организационно-правовая форма вуза?
— Здесь есть два подхода. Позиция работодателей однозначная: в диплом они особо не смотрят, их интересует портфолио выпускника. Для работодателей нет никакой разницы, окончил специалист частный или государственный вуз, им важны навыки и компетенции, с которыми к ним приходят выпускники.
А вот у родителей абитуриентов все еще сохраняются сомнения относительно частного вуза, хотя негосударственное высшее образование в России существует уже 30 лет. Я называю эти необоснованные предубеждения «атавизмом мышления». В нашей практике есть много примеров, когда сами дети, побывав у нас на Дне открытых дверей, настаивают на том, чтобы учиться здесь, несмотря на желание родителей выбрать государственный вуз.
Если вы хотите посмотреть, что вуз из себя представляет и каких студентов готовит, — придите к ним на защиту дипломных проектов. У нас, например, все защиты открыты для посещения, а в государственной экзаменационной комиссии нет ни одного нашего преподавателя, только приглашенные эксперты из креативных индустрий.
— Здесь есть два подхода. Позиция работодателей однозначная: в диплом они особо не смотрят, их интересует портфолио выпускника. Для работодателей нет никакой разницы, окончил специалист частный или государственный вуз, им важны навыки и компетенции, с которыми к ним приходят выпускники.
А вот у родителей абитуриентов все еще сохраняются сомнения относительно частного вуза, хотя негосударственное высшее образование в России существует уже 30 лет. Я называю эти необоснованные предубеждения «атавизмом мышления». В нашей практике есть много примеров, когда сами дети, побывав у нас на Дне открытых дверей, настаивают на том, чтобы учиться здесь, несмотря на желание родителей выбрать государственный вуз.
Если вы хотите посмотреть, что вуз из себя представляет и каких студентов готовит, — придите к ним на защиту дипломных проектов. У нас, например, все защиты открыты для посещения, а в государственной экзаменационной комиссии нет ни одного нашего преподавателя, только приглашенные эксперты из креативных индустрий.
«Не бывает регулируемого рынка, иначе он превращается в управляемый рынок, и само это понятие тогда теряет смысл».
— Как Вы считаете, в чем корень этого «атавизма мышления»? Опасения в нестабильности работы частного института?
— Скорее всего, да, потому что был период, начиная с 2014 года, когда количество частных вузов сократилось вдвое. Их закрывали сплошь и рядом, иногда — по делу, потому что там просто продавали дипломы. Думаю, боязнь, что вуз неожиданно закроется, у родителей все еще осталась. Хотя с правовой точки зрения даже если вуз закрывается, он обязан передать своих студентов в другую образовательную организацию. Тем не менее нам надо эти страхи преодолеть.
Частное образование существенно выросло по сравнению с тем, каким оно было раньше, и сейчас занимает примерно 30% образовательного рынка России. Негосударственным вузам проще быть гибкими, потому что в них меньше этапов согласования образовательных программ и включения в них новых актуальных элементов обучения. Они приглашают лучших преподавателей и поддерживают более тесные связи с работодателями. В этом смысле частные вузы, конечно, выигрывают у государственных. Проигрывают они в части финансирования, потому что частный вуз — это по сути предпринимательский вуз, который работает на принципах самоуправления и самоокупаемости.
Законодательно мы подчиняемся Минобру, выполняем все требования, проходим все необходимые лицензирования и аккредитации. А сейчас формируется тенденция к тому, что министерство хочет еще и регулировать стоимость обучения в том числе в частных институтах и университетах. Это может привести к законодательным противоречиям, ведь всю финансово-экономическую политику частного вуза определяет его учредитель — он утверждает цены на обучение.
Пока этот вопрос только обсуждается и на законодательном уровне не решен, но все же я не считаю, что это правильная тенденция, потому что тогда ответ на вопрос — что такое рынок — становится неочевидным. Не бывает регулируемого рынка, иначе он превращается в управляемый рынок, и само это понятие тогда теряет смысл. Все это может поставить частное образование в уязвимое положение. У нас в стране пока не развит институт частных инвесторов, которые могли бы вкладывать деньги в развитие образования, поэтому в таких вузах, как наш, 80% оборота — это плата студентов за обучение.
— Скорее всего, да, потому что был период, начиная с 2014 года, когда количество частных вузов сократилось вдвое. Их закрывали сплошь и рядом, иногда — по делу, потому что там просто продавали дипломы. Думаю, боязнь, что вуз неожиданно закроется, у родителей все еще осталась. Хотя с правовой точки зрения даже если вуз закрывается, он обязан передать своих студентов в другую образовательную организацию. Тем не менее нам надо эти страхи преодолеть.
Частное образование существенно выросло по сравнению с тем, каким оно было раньше, и сейчас занимает примерно 30% образовательного рынка России. Негосударственным вузам проще быть гибкими, потому что в них меньше этапов согласования образовательных программ и включения в них новых актуальных элементов обучения. Они приглашают лучших преподавателей и поддерживают более тесные связи с работодателями. В этом смысле частные вузы, конечно, выигрывают у государственных. Проигрывают они в части финансирования, потому что частный вуз — это по сути предпринимательский вуз, который работает на принципах самоуправления и самоокупаемости.
Законодательно мы подчиняемся Минобру, выполняем все требования, проходим все необходимые лицензирования и аккредитации. А сейчас формируется тенденция к тому, что министерство хочет еще и регулировать стоимость обучения в том числе в частных институтах и университетах. Это может привести к законодательным противоречиям, ведь всю финансово-экономическую политику частного вуза определяет его учредитель — он утверждает цены на обучение.
Пока этот вопрос только обсуждается и на законодательном уровне не решен, но все же я не считаю, что это правильная тенденция, потому что тогда ответ на вопрос — что такое рынок — становится неочевидным. Не бывает регулируемого рынка, иначе он превращается в управляемый рынок, и само это понятие тогда теряет смысл. Все это может поставить частное образование в уязвимое положение. У нас в стране пока не развит институт частных инвесторов, которые могли бы вкладывать деньги в развитие образования, поэтому в таких вузах, как наш, 80% оборота — это плата студентов за обучение.
— Почему, как Вы думаете, культура инвестирования в высшую школу и эндаумент-фонды до сих пор в России не самые активные институции?
— Наверное, потому что у нас мало абсолютно независимых частных инвесторов.
— Наверное, потому что у нас мало абсолютно независимых частных инвесторов.
— У вас выработан свой подход по выстраиванию партнерства с индустрией, с бизнесом. Расскажите, пожалуйста, о нем.
— Мы назвали этот подход бизнес-практикой и теперь реализуем его как образовательную технологию. Индустриальные партнеры института предлагают нам брифы, технические задания, для выполнения которых собираются команды студентов.
Начиналось все лет 10 назад со знакомых руководителей предприятий. Сейчас таких партнеров у нас около 200. Опыт показал, что в бизнес-практике заинтересованы все. Компании получают от студентов набор интересных, пусть и не на 100% профессиональных, но перспективных идей и решений. Мы в свою очередь обеспечиваем практико-ориентированное обучение, в ходе которого со студентами работают не только наши преподаватели, но и топ-менеджеры предприятий-заказчиков. Защиты проектов тоже проходят перед руководителями компаний. Обучающиеся не только получают реальный практический опыт, они видят, как на самом деле функционирует организация. Многих студентов потом берут на стажировку, в том числе оплачиваемую, часть ребят со второго курса уже подрабатывает на этих предприятиях в качестве внештатных сотрудников.
— Мы назвали этот подход бизнес-практикой и теперь реализуем его как образовательную технологию. Индустриальные партнеры института предлагают нам брифы, технические задания, для выполнения которых собираются команды студентов.
Начиналось все лет 10 назад со знакомых руководителей предприятий. Сейчас таких партнеров у нас около 200. Опыт показал, что в бизнес-практике заинтересованы все. Компании получают от студентов набор интересных, пусть и не на 100% профессиональных, но перспективных идей и решений. Мы в свою очередь обеспечиваем практико-ориентированное обучение, в ходе которого со студентами работают не только наши преподаватели, но и топ-менеджеры предприятий-заказчиков. Защиты проектов тоже проходят перед руководителями компаний. Обучающиеся не только получают реальный практический опыт, они видят, как на самом деле функционирует организация. Многих студентов потом берут на стажировку, в том числе оплачиваемую, часть ребят со второго курса уже подрабатывает на этих предприятиях в качестве внештатных сотрудников.
— С какого курса Ваши студенты начинают активно включаться в такие практические проекты?
— С первого курса. Старшекурсники уже сами набирают себе команду из первокурсников: находят под свои проекты «дизайнера», «управленца» и других ребят с разных факультетов, с разных программ.
— С первого курса. Старшекурсники уже сами набирают себе команду из первокурсников: находят под свои проекты «дизайнера», «управленца» и других ребят с разных факультетов, с разных программ.
— Креативная среда привлекает все трендовое, актуальное. Какие культурные инициативы сейчас становятся успешными проектами, которые интересны молодым талантам, заказчикам, инвесторам?
— Каждый год ситуация меняется. Мы можем судить об этом по набору студентов на разные специальности. Если в прошлом году больше всего абитуриентов у нас было на «Гейм-дизайне», то в эту приемную кампанию на первое место вышло совершенно традиционное направление — «Графический дизайн», на втором оказалась «Мода», которая в прошлом году была у нас одной из последних, а «Гейм-дизайн» пока занимает сегодня третье место по популярности. Здесь трудно прогнозировать спрос, а после — проанализировать и объяснить, почему определенные программы становятся более востребованными именно в этом году.
Что касается инициатив: сейчас многие студенты увлечены работами, связанными с брендингом, с развитием собственных проектов, от компьютерных игр до коллекций одежды, в которых они переосмысливают российскую национальную идентичность. Сейчас это тренд, который, благодаря студенческим проектам, превращается в жизнеспособные интересные культурные события.
— Каждый год ситуация меняется. Мы можем судить об этом по набору студентов на разные специальности. Если в прошлом году больше всего абитуриентов у нас было на «Гейм-дизайне», то в эту приемную кампанию на первое место вышло совершенно традиционное направление — «Графический дизайн», на втором оказалась «Мода», которая в прошлом году была у нас одной из последних, а «Гейм-дизайн» пока занимает сегодня третье место по популярности. Здесь трудно прогнозировать спрос, а после — проанализировать и объяснить, почему определенные программы становятся более востребованными именно в этом году.
Что касается инициатив: сейчас многие студенты увлечены работами, связанными с брендингом, с развитием собственных проектов, от компьютерных игр до коллекций одежды, в которых они переосмысливают российскую национальную идентичность. Сейчас это тренд, который, благодаря студенческим проектам, превращается в жизнеспособные интересные культурные события.
— Получается, для вас каждая приемная кампания — неожиданность, и вы заранее не предполагаете, какие направления будут самыми востребованными в текущем году?
— В общем, да. Наша политика такова, что мы не стремимся расти вширь как вуз, для чего ограничиваем количество студентов, набирая на каждое направление по две группы из 15 человек. Всего у нас 2000 обучающихся. Нам действительно интересно наблюдать, как каждый год меняются тенденции выбора абитуриентов. У нас есть подготовительные курсы, фактически это нулевой курс института, где мы даем базовые основы всех образовательных программ, чтобы слушатели могли в течение года выбрать для себя наиболее интересное направление. По результатам обучения на этих курсах мы делаем примерный прогноз по востребованности тех или иных специальностей.
В целом конкурс у нас достаточно большой, и отсев есть, ведь мы принимаем не только по ЕГЭ, но и проводим свой внутренний дополнительный экзамен.
— В общем, да. Наша политика такова, что мы не стремимся расти вширь как вуз, для чего ограничиваем количество студентов, набирая на каждое направление по две группы из 15 человек. Всего у нас 2000 обучающихся. Нам действительно интересно наблюдать, как каждый год меняются тенденции выбора абитуриентов. У нас есть подготовительные курсы, фактически это нулевой курс института, где мы даем базовые основы всех образовательных программ, чтобы слушатели могли в течение года выбрать для себя наиболее интересное направление. По результатам обучения на этих курсах мы делаем примерный прогноз по востребованности тех или иных специальностей.
В целом конкурс у нас достаточно большой, и отсев есть, ведь мы принимаем не только по ЕГЭ, но и проводим свой внутренний дополнительный экзамен.
— Для разработок, созданных в профильных вузах, критериями успешности считаются возможность капитализации и выход в массовое производство. Что Вы считаете ключевым в креативном продукте? Это оригинальная творческая идея, на которой можно заработать?
— Пожалуй, да. Другое дело, что эта капитализация бывает разной, в зависимости от направления. Скажем, все дипломные коллекции наших студентов направления «Мода» продаются еще до их демонстрации. У них уже есть свои покупатели, потому что это уникальные вещи, единичные экземпляры. А вот студенты, которые учатся на направлениях «Цифровой дизайн» или «Моушн-дизайн», делают технологические стартапы, которые действительно имеют тенденцию к тиражированию и капитализации. То же самое в гейм-дизайне: наши выпускники успешно продают свои игры на различных платформах, в том числе зарубежных.
— Пожалуй, да. Другое дело, что эта капитализация бывает разной, в зависимости от направления. Скажем, все дипломные коллекции наших студентов направления «Мода» продаются еще до их демонстрации. У них уже есть свои покупатели, потому что это уникальные вещи, единичные экземпляры. А вот студенты, которые учатся на направлениях «Цифровой дизайн» или «Моушн-дизайн», делают технологические стартапы, которые действительно имеют тенденцию к тиражированию и капитализации. То же самое в гейм-дизайне: наши выпускники успешно продают свои игры на различных платформах, в том числе зарубежных.
— Если вернуться к нашему разговору о том, что у родителей абитуриентов сохраняются какие-то прежние стереотипы, то надо сказать еще об одном заблуждении о творческих специальностях, — что это чаще всего выбор пути «бедного художника». Мы сейчас с Вами говорим о таких индустриях, которые у взрослого поколения могут вызвать вопрос: «Да что там вообще можно заработать — на играх или моде?» В реальности же это огромные высокодоходные бизнесы.
— Около 70% наших третьекурсников уже работают, среди выпускников этот показатель достигает 90%. Средняя зарплата на первом году выпуска, по данным наших опросов, составляет порядка 100–110 тысяч рублей в месяц. Есть ребята, которые зарабатывают по 300, 400 и 500 тысяч рублей. «Бедных художников» среди них точно нет — во всяком случае, если это «настоящие художники». Это специалисты, которые зарабатывают хорошие деньги на работе, которая им нравится, и живут счастливой творческой жизнью.
— Около 70% наших третьекурсников уже работают, среди выпускников этот показатель достигает 90%. Средняя зарплата на первом году выпуска, по данным наших опросов, составляет порядка 100–110 тысяч рублей в месяц. Есть ребята, которые зарабатывают по 300, 400 и 500 тысяч рублей. «Бедных художников» среди них точно нет — во всяком случае, если это «настоящие художники». Это специалисты, которые зарабатывают хорошие деньги на работе, которая им нравится, и живут счастливой творческой жизнью.
— Еще один тренд современного образования — создавать в вузе безопасную среду обучения, где студентам дана возможность развиваться путем проб и ошибок, за которые не накажут. При этом потом, в реальной работе, в бизнесе, выпускники могут столкнуться с тем, что ошибки обходятся очень дорого. Как тогда комфортную среду в вузе не превратить в «теплицу»?
— Во-первых, нельзя сказать, что мы создаем студентам такую благоприятную среду, в которой их только хвалят, что бы они ни сделали. Критика от преподавателя — обязательный элемент обучения, иначе не научить.
Во-вторых, в отличие от многих творческих институтов, где обучающиеся попадают в мастерскую к одному преподавателю и учатся у него все четыре года, мы используем другой подход. В каждом семестре наши студенты делают проекты у разных преподавателей, и каждый привносит свое видение в творчестве, развивая индивидуальные способности обучающихся.
Третий момент — мы всегда говорим студентам: пока вы учитесь в институте, развивайте свой креатив. Делайте, как вы хотите, мы вас не ограничиваем ни в инструментариях, ни в подходах. Ошибайтесь, создавая новое. Но при этом мы всегда добавляем: после того, как вы выйдете из института и пойдете работать, вы окажетесь в жестких рамках требований бизнеса. Право на ошибку у вас, конечно, будет, но за нее вас будут критиковать не так, как в институте.
Могу однозначно сказать, что у нас далеко не тепличные условия подготовки. Скорее, это конструктивная критика на фоне свободы творчества. Я считаю, что это самое эффективное обучение.
— Во-первых, нельзя сказать, что мы создаем студентам такую благоприятную среду, в которой их только хвалят, что бы они ни сделали. Критика от преподавателя — обязательный элемент обучения, иначе не научить.
Во-вторых, в отличие от многих творческих институтов, где обучающиеся попадают в мастерскую к одному преподавателю и учатся у него все четыре года, мы используем другой подход. В каждом семестре наши студенты делают проекты у разных преподавателей, и каждый привносит свое видение в творчестве, развивая индивидуальные способности обучающихся.
Третий момент — мы всегда говорим студентам: пока вы учитесь в институте, развивайте свой креатив. Делайте, как вы хотите, мы вас не ограничиваем ни в инструментариях, ни в подходах. Ошибайтесь, создавая новое. Но при этом мы всегда добавляем: после того, как вы выйдете из института и пойдете работать, вы окажетесь в жестких рамках требований бизнеса. Право на ошибку у вас, конечно, будет, но за нее вас будут критиковать не так, как в институте.
Могу однозначно сказать, что у нас далеко не тепличные условия подготовки. Скорее, это конструктивная критика на фоне свободы творчества. Я считаю, что это самое эффективное обучение.
12 августа / 2025
Интервью провели: Александр Никифоров, Екатерина Позднякова
Текст подготовила: Екатерина Позднякова
Материал подготовлен редакцией издания «Ректор говорит!». При копировании ссылка на издание «Ректор говорит!» обязательна.
Текст подготовила: Екатерина Позднякова
Материал подготовлен редакцией издания «Ректор говорит!». При копировании ссылка на издание «Ректор говорит!» обязательна.
[ Рассылка ]
Каждую неделю — новый материал
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, сенсационных научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, сенсационных научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Подписаться на рассылку
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми получать актуальную информацию о высшем образовании от руководства учебных и научных организаций, экспертов в области высшего образования и представителей профильных министерств.