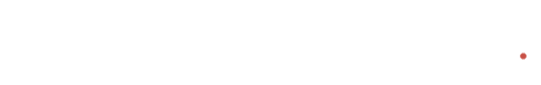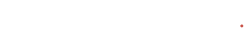Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Отправляя форму, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
«Как частные университеты могут изменить образовательный ландшафт России?»
Интервью с ректором Южного университета (ИУБиП)
Имраном Акперовым.
Имраном Акперовым.
Южный университет в Ростове-на-Дону — пионер негосударственного сектора образования в России, обладатель первой лицензии в стране на ведение образовательной деятельности как частный вуз. Разговор с его ректором, конечно же, строился вокруг темы частного высшего образования, его потенциале и перспективах, но не только. Поговорили мы и о масштабных международных проектах, благодаря которым российские вузы усиливают свои образовательные программы.
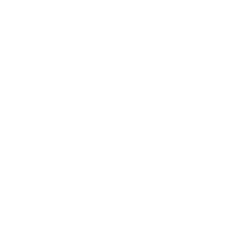
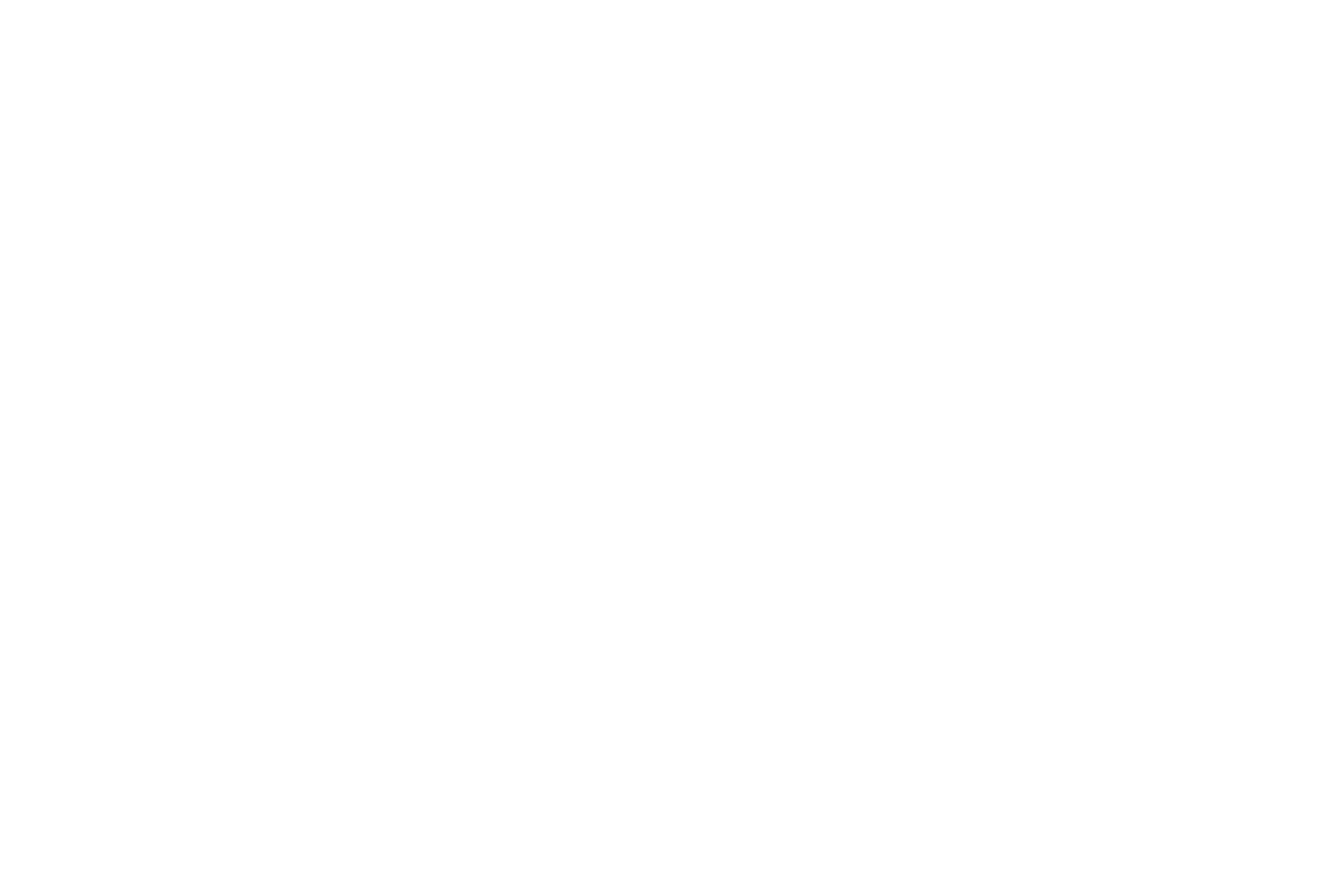
«Частный сектор высшего образования может быть катализатором и драйвером инноваций во всем российском образовании».
— Имран Гурруевич, Вы являетесь президентом ассоциации частных образовательных учреждений юга России и зампредом ассоциации негосударственных вузов. Поэтому прежде всего хотелось бы начать разговор с Вашей экспертной оценки. В каком состоянии сегодня находится частное высшее образование в России?
— Для меня большая ответственность говорить за все частное образование. С другой стороны, имеем на это право: Южный университет первым в России получил лицензию на ведение образовательной деятельности как частный вуз.
Это произошло сразу после того, как в 1992 году был опубликован федеральный закон «Об образовании» (имеется в виду редакция от 10.07.1992 г. — Прим. ред.).
С тех пор прошло более 30 лет, и сегодня я могу рассказать о своих наблюдениях, что происходило с частным образованием в нашей стране и куда оно движется сегодня.
К сожалению, одну из главных системных проблем мы до сих пор не решили. Органы управления образованием в нашей стране по-прежнему часто недооценивают, каким огромным ресурсом и потенциалом располагает частное образование и что его можно использовать во благо всей отрасли, для повышения качества обучения, причем без каких-либо бюджетных инвестиций. Частный сектор высшего образования может быть катализатором и драйвером инноваций во всем российском образовании, ведь главный наш ресурс — это наша мобильность. Мы фактически живем инновациями.
— Для меня большая ответственность говорить за все частное образование. С другой стороны, имеем на это право: Южный университет первым в России получил лицензию на ведение образовательной деятельности как частный вуз.
Это произошло сразу после того, как в 1992 году был опубликован федеральный закон «Об образовании» (имеется в виду редакция от 10.07.1992 г. — Прим. ред.).
С тех пор прошло более 30 лет, и сегодня я могу рассказать о своих наблюдениях, что происходило с частным образованием в нашей стране и куда оно движется сегодня.
К сожалению, одну из главных системных проблем мы до сих пор не решили. Органы управления образованием в нашей стране по-прежнему часто недооценивают, каким огромным ресурсом и потенциалом располагает частное образование и что его можно использовать во благо всей отрасли, для повышения качества обучения, причем без каких-либо бюджетных инвестиций. Частный сектор высшего образования может быть катализатором и драйвером инноваций во всем российском образовании, ведь главный наш ресурс — это наша мобильность. Мы фактически живем инновациями.
«Инвестиции в образование — это благородное дело, и они того стоят».
Меня очень обрадовало, что в недавнем своем выступлении наш президент отметил, что в России появились хорошие частные университеты. До этого больше 30 лет ни один министр образования — а при мне сменилось уже 5 или 6 глав ведомства — ни слова не говорил про частные вузы. А ведь в мировой практике более всего известны именно негосударственные университеты.
Гарвардский университет обрел свое громкое имя благодаря тому, что предприниматель средней руки Джон Гарвард подарил ему свои богатства. До этого университет был никому не известным объединением преподавателей. С момента основания Гарвардского университета прошло почти 400 лет. За это время в Соединенных Штатах жило очень много очень богатых людей, гораздо состоятельнее Джона Гарварда, но все помнят его имя.
Инвестиции в образование — это благородное дело, и они того стоят. Посмотрите на топ-10 рейтинга лучших университетов мира: там почти все вузы частные. У нас же, к сожалению, нет культуры меценатства в образование.
Более того, частный сектор высшего образования в России остается вне конкурентной среды. Негосударственные вузы не допускаются к участию ни в федеральных проектах и программах, вроде ранее проводимых «Опорных университетов» или действующего «Приоритета-2030», ни в научные фонды.
Вокруг частных вузов сформировался миф, будто бы там не учат, а раздают дипломы. А между тем я как ректор частного университета крайне заинтересован в том, чтобы у нас было качественное образование, и не потому, что это требование контролирующего ведомства, а потому что я хочу, чтобы к нам шли учиться. Поверьте, хорошие частные вузы тоже хотят, чтобы среди нас не было так называемых фабрик дипломов, потому что они портят наш имидж, а для нас важна наша репутация.
Гарвардский университет обрел свое громкое имя благодаря тому, что предприниматель средней руки Джон Гарвард подарил ему свои богатства. До этого университет был никому не известным объединением преподавателей. С момента основания Гарвардского университета прошло почти 400 лет. За это время в Соединенных Штатах жило очень много очень богатых людей, гораздо состоятельнее Джона Гарварда, но все помнят его имя.
Инвестиции в образование — это благородное дело, и они того стоят. Посмотрите на топ-10 рейтинга лучших университетов мира: там почти все вузы частные. У нас же, к сожалению, нет культуры меценатства в образование.
Более того, частный сектор высшего образования в России остается вне конкурентной среды. Негосударственные вузы не допускаются к участию ни в федеральных проектах и программах, вроде ранее проводимых «Опорных университетов» или действующего «Приоритета-2030», ни в научные фонды.
Вокруг частных вузов сформировался миф, будто бы там не учат, а раздают дипломы. А между тем я как ректор частного университета крайне заинтересован в том, чтобы у нас было качественное образование, и не потому, что это требование контролирующего ведомства, а потому что я хочу, чтобы к нам шли учиться. Поверьте, хорошие частные вузы тоже хотят, чтобы среди нас не было так называемых фабрик дипломов, потому что они портят наш имидж, а для нас важна наша репутация.
— Замечаете ли Вы перемены в отношении к частному образованию со стороны общества в целом? Изменилось ли отношение работодателей к выпускникам частных университетов?
— Со стороны бизнеса вообще нет проблем, потому что работодателю нужен специалист, который решает проблему, а не диплом приносит. Мы в этом смысле более успешны, чем многие другие государственные вузы.
Главный результат любого университета — это его выпускники, и я считаю, что мы должны закладывать в них умение быть успешными. Лозунг Южного университета: «Мы делаем образование основой профессионализма и успешности». На мой взгляд, вторая составляющая в этом слогане гораздо важнее первой. Профессионализм — это компетенция. Сейчас многие компетенции может выполнять искусственный интеллект. А вот как человека вырастить успешным? Мы с первого курса учим своих студентов, что надо уметь пробиваться в жизни, бороться за себя и за свое место под солнцем.
— Со стороны бизнеса вообще нет проблем, потому что работодателю нужен специалист, который решает проблему, а не диплом приносит. Мы в этом смысле более успешны, чем многие другие государственные вузы.
Главный результат любого университета — это его выпускники, и я считаю, что мы должны закладывать в них умение быть успешными. Лозунг Южного университета: «Мы делаем образование основой профессионализма и успешности». На мой взгляд, вторая составляющая в этом слогане гораздо важнее первой. Профессионализм — это компетенция. Сейчас многие компетенции может выполнять искусственный интеллект. А вот как человека вырастить успешным? Мы с первого курса учим своих студентов, что надо уметь пробиваться в жизни, бороться за себя и за свое место под солнцем.
«Мы не можем себе позволить просто так держать людей в коллективе, в том числе ученых, которые могут числиться в штате, а по факту ничего не создавать, не изобретать».
— В чем, на Ваш взгляд, слабые стороны частного вуза?
— В том, что мы не можем себе позволить просто так держать людей в коллективе, в том числе ученых, которые могут числиться в штате, а по факту ничего не создавать, не изобретать. В государственном вузе такой преподаватель может год сидеть без дела и получать зарплату. У нас же такой возможности нет, потому что весь бюджет рассчитан на получение результатов здесь и сейчас. Это создает для нас нехватку ресурсов и кадров, но мы восполняем этот дефицит благодаря сотрудничеству с другими университетами.
— В том, что мы не можем себе позволить просто так держать людей в коллективе, в том числе ученых, которые могут числиться в штате, а по факту ничего не создавать, не изобретать. В государственном вузе такой преподаватель может год сидеть без дела и получать зарплату. У нас же такой возможности нет, потому что весь бюджет рассчитан на получение результатов здесь и сейчас. Это создает для нас нехватку ресурсов и кадров, но мы восполняем этот дефицит благодаря сотрудничеству с другими университетами.
«Если государство сейчас по-настоящему поддержит частное высшее образование, за два-три года в России появятся десятки частных вузов, которые в ближайшие 10 лет опередят многие успешные государственные университеты».
— Какие успешные модели частного образования за рубежом могли бы быть реализованы в России?
— Помню, как в 1990-е годы я участвовал в заседании ассоциации развития менеджмента, куда пригласили с лекцией американцев. Они рассказывали о бизнес-образовании и приводили много своих примеров. Я долго их слушал, а потом сказал: «Это же все американские кейсы, а мы готовим специалистов для работы в России». Им такое мнение не понравилось: меня пытались убедить в том, американское бизнес-образование лучшее в мире. Для американцев — возможно. Там действительно хорошая, во многом уникальная система частного бизнес-образования, но у нас другая страна, другая экономика, другой менталитет, другие масштабы и ценности. Мы должны приземлять и адаптировать у себя мировой образовательный опыт с учетом своей специфики.
В России много талантливых людей, и тех из них, кто развивает частное образование, важно поддержать — именно сейчас. Я знаю многих ректоров частных вузов в нашей стране, знаю их историю — это по-хорошему «сумасшедшие» люди, смелые, не побоявшиеся пойти в этот сегмент и развивать его в течение 30 лет, несмотря на трудности. Но большинство из них принадлежат к старшему поколению. Будут ли их преемники такими же энтузиастами?
Я уверен: если государство сейчас по-настоящему поддержит частное высшее образование, за два-три года в России появятся десятки частных вузов, которые в ближайшие 10 лет опередят многие успешные государственные университеты. Никаких денег из бюджета для этого вкладывать не придется.
— Помню, как в 1990-е годы я участвовал в заседании ассоциации развития менеджмента, куда пригласили с лекцией американцев. Они рассказывали о бизнес-образовании и приводили много своих примеров. Я долго их слушал, а потом сказал: «Это же все американские кейсы, а мы готовим специалистов для работы в России». Им такое мнение не понравилось: меня пытались убедить в том, американское бизнес-образование лучшее в мире. Для американцев — возможно. Там действительно хорошая, во многом уникальная система частного бизнес-образования, но у нас другая страна, другая экономика, другой менталитет, другие масштабы и ценности. Мы должны приземлять и адаптировать у себя мировой образовательный опыт с учетом своей специфики.
В России много талантливых людей, и тех из них, кто развивает частное образование, важно поддержать — именно сейчас. Я знаю многих ректоров частных вузов в нашей стране, знаю их историю — это по-хорошему «сумасшедшие» люди, смелые, не побоявшиеся пойти в этот сегмент и развивать его в течение 30 лет, несмотря на трудности. Но большинство из них принадлежат к старшему поколению. Будут ли их преемники такими же энтузиастами?
Я уверен: если государство сейчас по-настоящему поддержит частное высшее образование, за два-три года в России появятся десятки частных вузов, которые в ближайшие 10 лет опередят многие успешные государственные университеты. Никаких денег из бюджета для этого вкладывать не придется.
— Какие технологии или образовательные форматы, на Ваш взгляд, могут стать «точками роста» для частного высшего образования?
— Вернусь к тезису о том, что наша главная задача — не просто обучать конкретной профессии, но и делать обучающегося у нас человека успешным, умеющим чего-то добиваться в жизни. Мы думали над тем, как это реализовать, и создали специальную неакадемическую платформу, с помощью которой студент сможет формировать мягкие компетенции.
Освоить soft skills теперь не менее важно, а может, где-то даже важнее, чем получить профессиональные компетенции, научиться которым сегодня, во-первых, не проблема, а во-вторых, актуальность профессиональных компетенций быстро меняется. Гораздо более ценным качеством становится адаптивность к смене технологий.
Каждый выпускник Южного университета не только получает диплом о высшем образовании, он должен набрать определенное количество баллов на неакадемической платформе по освоенным мягким компетенциям. Насколько я знаю, мы пока единственный в России вуз, где реализуется проект по метакомпетенциям. С первого курса наши студенты изучают цифровые навыки и цифровое сознание, а на последнем все направления подготовки слушают курс «Системный подход к профессиональной деятельности». В течение двух-трех лет мы хотим сделать цифровой кампус формата «Мета-Университет» и постепенно создадим на его базе универсальную лабораторию виртуальной реальности для каждой специальности и дисциплины.
— Вернусь к тезису о том, что наша главная задача — не просто обучать конкретной профессии, но и делать обучающегося у нас человека успешным, умеющим чего-то добиваться в жизни. Мы думали над тем, как это реализовать, и создали специальную неакадемическую платформу, с помощью которой студент сможет формировать мягкие компетенции.
Освоить soft skills теперь не менее важно, а может, где-то даже важнее, чем получить профессиональные компетенции, научиться которым сегодня, во-первых, не проблема, а во-вторых, актуальность профессиональных компетенций быстро меняется. Гораздо более ценным качеством становится адаптивность к смене технологий.
Каждый выпускник Южного университета не только получает диплом о высшем образовании, он должен набрать определенное количество баллов на неакадемической платформе по освоенным мягким компетенциям. Насколько я знаю, мы пока единственный в России вуз, где реализуется проект по метакомпетенциям. С первого курса наши студенты изучают цифровые навыки и цифровое сознание, а на последнем все направления подготовки слушают курс «Системный подход к профессиональной деятельности». В течение двух-трех лет мы хотим сделать цифровой кампус формата «Мета-Университет» и постепенно создадим на его базе универсальную лабораторию виртуальной реальности для каждой специальности и дисциплины.
— Какими Вы видите перспективы частных вузов в ближайшие 5–10 лет? Есть ли у них шансы оказаться в федеральных и международных рейтингах?
— Если бы я не был оптимистом, не было бы Южного университета. Конечно, перспективы у частного высшего образования в России есть. Я верю, что придет наконец-то понимание того, какой мощнейший ресурс есть у частного сектора высшей школы и как его можно использовать для повышения качества образования.
Мир движется в сторону цифровизации, искусственного интеллекта, а это требует принятия более оптимальных решений, потому как жизнь ускоряется, и в таких условиях очень важна мобильность организации. Я убежден, что через 2–3 года наиболее успешны будут мобильные, быстро адаптирующиеся университеты, которые умеют оперативно отвечать на вызовы времени.
— Если бы я не был оптимистом, не было бы Южного университета. Конечно, перспективы у частного высшего образования в России есть. Я верю, что придет наконец-то понимание того, какой мощнейший ресурс есть у частного сектора высшей школы и как его можно использовать для повышения качества образования.
Мир движется в сторону цифровизации, искусственного интеллекта, а это требует принятия более оптимальных решений, потому как жизнь ускоряется, и в таких условиях очень важна мобильность организации. Я убежден, что через 2–3 года наиболее успешны будут мобильные, быстро адаптирующиеся университеты, которые умеют оперативно отвечать на вызовы времени.
— Имран Гурруевич, спасибо за подробный разбор темы частного высшего образования. Хотели бы с Вами обсудить еще одно важное направление деятельности для любого университета, который ведет аналогичную работу, — международное сотрудничество.
Вы в этом вопросе тоже обладаете серьезной экспертизой: руководите образовательным альянсом «Деловая Евразия», который объединяет ведущие образовательные учреждения, бизнес-школы и исследовательские центры в Евразии. Каких изменений в международном образовательном ландшафте Вы ожидаете с развитием подобных объединений?
— Поясню, откуда вообще появилась идея создания образовательного альянса «Деловая Евразия». Я состою в Совете Российской Ассоциации бизнес-образования и не раз говорил о том, что образовательные программы формата МВА исчерпали себя в нашей стране. Англосаксонская система бизнес-образования — это хорошая система, но она не для нас. Тогда и возникло предложение: давайте создадим свою систему, евразийскую, ведь к ней относится мощнейшее пространство России, Китая, Индии, Восточной Азии.
Два года я ездил по этим странам и убедился, что мои коллеги, ректоры местных вузов, разделяют это мнение. Так мы создали международный альянс вузов, которые считают важным формировать евразийские стандарты делового образования, и теперь каждый год мы встречаемся на совместных площадках, провели множество мероприятий в Средней Азии, Китае, Иране, Турции, Индии, Бангладеш, Малайзии, Индонезии…
В отличие от англосаксонских стандартов, рассчитанных на глобализацию мира, евразийские стандарты учитывают интересы локальных бизнесов в каждой стране и специфику местных экономик. В нашем Альянсе нет доминирующей страны-участницы, его цель — помогать каждому государству в евразийском пространстве быть успешным в новых экономических реалиях.
Наша задача не конкурировать, а действовать на взаимовыгодных условиях, усиливать друг друга. В планах сделать общее виртуальное сетевое пространство, где все университеты смогут постоянно быть в контакте, где студенты из разных стран смогут общаться друг с другом. Думаю, наш проект «Мета-Университет» может быть растиражирован как идея, и в других вузах тоже появится подобный ресурс, а впоследствии мы их объединим. В апреле у нас будет большая совместная конференция в Стамбуле, и там мы впервые презентуем свою концепцию «Мета-Университета» — посмотрим, как ее воспримут наши партнеры. Я считаю, что такие проекты — это завтрашний день международного сетевого взаимодействия университетов.
Вы в этом вопросе тоже обладаете серьезной экспертизой: руководите образовательным альянсом «Деловая Евразия», который объединяет ведущие образовательные учреждения, бизнес-школы и исследовательские центры в Евразии. Каких изменений в международном образовательном ландшафте Вы ожидаете с развитием подобных объединений?
— Поясню, откуда вообще появилась идея создания образовательного альянса «Деловая Евразия». Я состою в Совете Российской Ассоциации бизнес-образования и не раз говорил о том, что образовательные программы формата МВА исчерпали себя в нашей стране. Англосаксонская система бизнес-образования — это хорошая система, но она не для нас. Тогда и возникло предложение: давайте создадим свою систему, евразийскую, ведь к ней относится мощнейшее пространство России, Китая, Индии, Восточной Азии.
Два года я ездил по этим странам и убедился, что мои коллеги, ректоры местных вузов, разделяют это мнение. Так мы создали международный альянс вузов, которые считают важным формировать евразийские стандарты делового образования, и теперь каждый год мы встречаемся на совместных площадках, провели множество мероприятий в Средней Азии, Китае, Иране, Турции, Индии, Бангладеш, Малайзии, Индонезии…
В отличие от англосаксонских стандартов, рассчитанных на глобализацию мира, евразийские стандарты учитывают интересы локальных бизнесов в каждой стране и специфику местных экономик. В нашем Альянсе нет доминирующей страны-участницы, его цель — помогать каждому государству в евразийском пространстве быть успешным в новых экономических реалиях.
Наша задача не конкурировать, а действовать на взаимовыгодных условиях, усиливать друг друга. В планах сделать общее виртуальное сетевое пространство, где все университеты смогут постоянно быть в контакте, где студенты из разных стран смогут общаться друг с другом. Думаю, наш проект «Мета-Университет» может быть растиражирован как идея, и в других вузах тоже появится подобный ресурс, а впоследствии мы их объединим. В апреле у нас будет большая совместная конференция в Стамбуле, и там мы впервые презентуем свою концепцию «Мета-Университета» — посмотрим, как ее воспримут наши партнеры. Я считаю, что такие проекты — это завтрашний день международного сетевого взаимодействия университетов.
— Вы перечислили множество стран, где в рамках деятельности Альянса «Деловая Евразия» Вы участвовали в мероприятиях и встречах с российскими и международными партнерами. Какие именно образовательные инициативы и проекты вызывают наибольший интерес у Ваших зарубежных коллег?
— У них интерес не к Южному университету конкретно, а к тем идеям, о которых мы говорим. На подобных мероприятиях царит правило: не навязывать свои преимущества, избегать позиции «мы самые главные, самые умные, слушайте только нас». Мы все равноправные участники, и для каждого из нас важны совместные проекты — какая от них будет польза и благо.
К примеру, вместе с Бухарским инженерно-технологическим институтом (Узбекистан) мы создаем цифровую школу для детей, чтобы потом ее выпускники поступали к ним на направления информационных технологий. С Международным университетом «Эмирмед» в Алматы (Казахстан) мы договариваемся сделать совместную образовательную программу по использованию искусственного интеллекта в медицине — в этом направлении у них есть хорошие наработки, а мы поможем им с направлением по оздоровительному туризму, в котором силен Южный университет.
Точно так же каждый участник Альянса выбирает для себя, с кем ему интересно было бы поработать, каждый ищет себе своего партнера. Думаю, за таким форматом взаимодействия — взаимно уважительного, взаимовыгодного и равноправного — будущее международного сотрудничества университетов.
— У них интерес не к Южному университету конкретно, а к тем идеям, о которых мы говорим. На подобных мероприятиях царит правило: не навязывать свои преимущества, избегать позиции «мы самые главные, самые умные, слушайте только нас». Мы все равноправные участники, и для каждого из нас важны совместные проекты — какая от них будет польза и благо.
К примеру, вместе с Бухарским инженерно-технологическим институтом (Узбекистан) мы создаем цифровую школу для детей, чтобы потом ее выпускники поступали к ним на направления информационных технологий. С Международным университетом «Эмирмед» в Алматы (Казахстан) мы договариваемся сделать совместную образовательную программу по использованию искусственного интеллекта в медицине — в этом направлении у них есть хорошие наработки, а мы поможем им с направлением по оздоровительному туризму, в котором силен Южный университет.
Точно так же каждый участник Альянса выбирает для себя, с кем ему интересно было бы поработать, каждый ищет себе своего партнера. Думаю, за таким форматом взаимодействия — взаимно уважительного, взаимовыгодного и равноправного — будущее международного сотрудничества университетов.
1 апреля / 2025
Беседовали: Александр Никифоров, Екатерина Позднякова
Текст подготовила: Екатерина Позднякова
Материал подготовлен редакцией издания «Ректор говорит!». При копировании ссылка на издание «Ректор говорит!» обязательна.
Текст подготовила: Екатерина Позднякова
Материал подготовлен редакцией издания «Ректор говорит!». При копировании ссылка на издание «Ректор говорит!» обязательна.
[ Рассылка ]
Каждую неделю — новый материал
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, сенсационных научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, сенсационных научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Подписаться на рассылку
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми получать актуальную информацию о высшем образовании от руководства учебных и научных организаций, экспертов в области высшего образования и представителей профильных министерств.