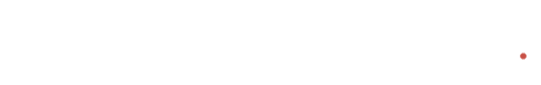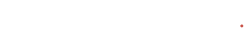Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Отправляя форму, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
«Университет — место, где рождаются идеи
и управленческие решения»
и управленческие решения»
Интервью с ректором Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета
имени Ж. И. Алферова Российской академии наук
Александром Наумовым.
имени Ж. И. Алферова Российской академии наук
Александром Наумовым.
Как воспитать настоящего ученого в эпоху быстрой выгоды и коротких дистанций? Зачем университеты нужны бизнесу, и при чем здесь «алферовская триада»? О системе подготовки исследователей, смыслах, вызовах и будущем — рассказывает ректор Алферовского университета Александр Наумов.
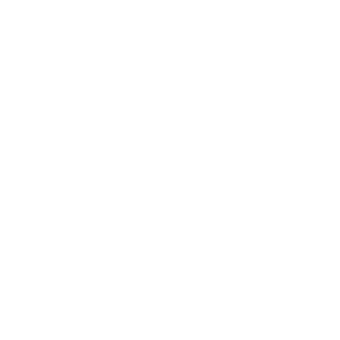
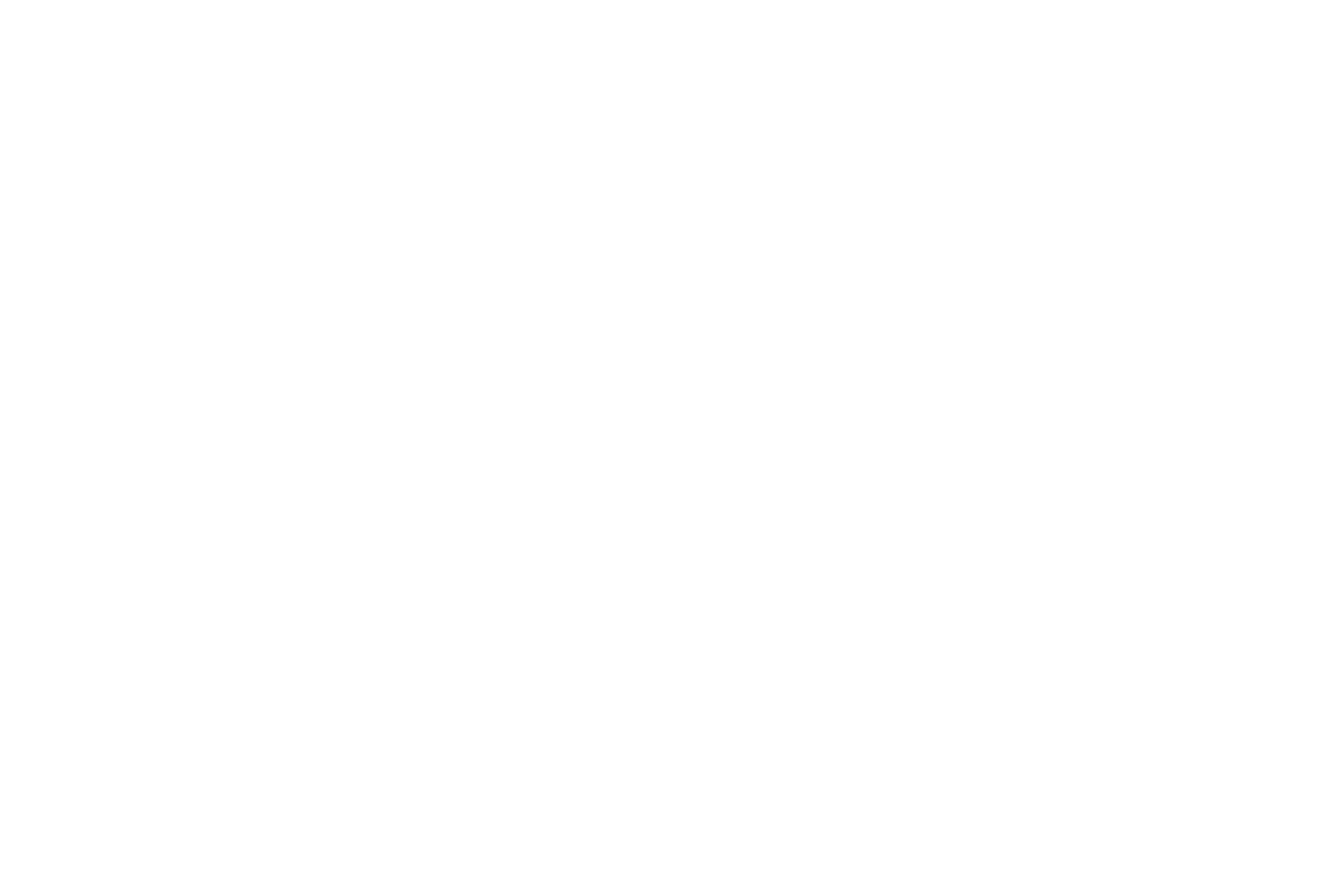
— Александр Рудольфович, прежде чем начать разговор о высшем образовании и об Алферовском университете в частности, интересно было бы узнать о структурном подразделении Вашего вуза — Физико-технической школе имени Ж. И. Алферова. Это учебное учреждение находится в десятке лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. Какая она — одна из сильнейших физико-технических школ в стране?
— Начну с того, что в сентябре 2023 года на совещании молодых ученых в городе Сарове, которое возглавлял Президент России, один из участников встречи, научный руководитель Национального центра физики и математики академик Александр Михайлович Сергеев посетовал на то, что в стране распалась система подготовки физиков-исследователей. Реакция Президента была моментальной: он спросил, а как же «алферовская триада», когда под одной крышей собраны физмат-школа, университет и научные лаборатории? Ведь это же и есть модель правильной подготовки исследователей! Это была очень точная характеристика целеполагания всего университета и места в нем нашего лицея ФТШ.
И у нашего лицея, и у центра высшего образования одна задача — подготовка и воспитание исследователя. Причем мы вкладываем в это понятие не столько даже профессию человека, который работает в области точных наук, сколько подготовку специалиста, для которого исследовательская деятельность — главный компонент его жизни. Если хотите — основная составляющая его мировоззрения.
Негласный девиз Алферовского университета: «от школьной парты до Академии наук» — это не просто красивая фраза. Более 150 выпускников физмат-лицея, который, к слову, старше университета, — ныне действующие сотрудники Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе, среди них члены-корреспонденты Российской Академии наук. Выпускники школы составляют заметную часть кадрового состава нашего университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Университета ИТМО, исследовательских институтов РАН. Считаю, это показатель качества обучения в ФТШ, поэтому ее вес, ее слово и позиция в университете очень значимы.
Там, безусловно, уникальный педагогический состав. Наши учителя физики — действующие руководители научных лабораторий Физтеха. Так что ученики ФТШ приближены к самому фронтиру, отделяющему знание от незнания. И кстати, вопреки стереотипу, что ребята, которые занимаются физикой, математикой, биологией и химией, — интроверты, погруженные исключительно в учебу, могу сказать, что это прекрасные разносторонне развитые дети, которые также увлечены творчеством, музыкой, театром.
Мы набираем один восьмой класс, один девятый и по три десятых и одиннадцатых класса. Всего в прошлом году школа выпустила 65 человек.
— Начну с того, что в сентябре 2023 года на совещании молодых ученых в городе Сарове, которое возглавлял Президент России, один из участников встречи, научный руководитель Национального центра физики и математики академик Александр Михайлович Сергеев посетовал на то, что в стране распалась система подготовки физиков-исследователей. Реакция Президента была моментальной: он спросил, а как же «алферовская триада», когда под одной крышей собраны физмат-школа, университет и научные лаборатории? Ведь это же и есть модель правильной подготовки исследователей! Это была очень точная характеристика целеполагания всего университета и места в нем нашего лицея ФТШ.
И у нашего лицея, и у центра высшего образования одна задача — подготовка и воспитание исследователя. Причем мы вкладываем в это понятие не столько даже профессию человека, который работает в области точных наук, сколько подготовку специалиста, для которого исследовательская деятельность — главный компонент его жизни. Если хотите — основная составляющая его мировоззрения.
Негласный девиз Алферовского университета: «от школьной парты до Академии наук» — это не просто красивая фраза. Более 150 выпускников физмат-лицея, который, к слову, старше университета, — ныне действующие сотрудники Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе, среди них члены-корреспонденты Российской Академии наук. Выпускники школы составляют заметную часть кадрового состава нашего университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Университета ИТМО, исследовательских институтов РАН. Считаю, это показатель качества обучения в ФТШ, поэтому ее вес, ее слово и позиция в университете очень значимы.
Там, безусловно, уникальный педагогический состав. Наши учителя физики — действующие руководители научных лабораторий Физтеха. Так что ученики ФТШ приближены к самому фронтиру, отделяющему знание от незнания. И кстати, вопреки стереотипу, что ребята, которые занимаются физикой, математикой, биологией и химией, — интроверты, погруженные исключительно в учебу, могу сказать, что это прекрасные разносторонне развитые дети, которые также увлечены творчеством, музыкой, театром.
Мы набираем один восьмой класс, один девятый и по три десятых и одиннадцатых класса. Всего в прошлом году школа выпустила 65 человек.
— Сколько из них стали Вашими первокурсниками?
— Восемь. В позапрошлом году — двое.
— Восемь. В позапрошлом году — двое.
«Люди сегодня ждут от высшего образования как раз того, что оно станет некой гарантией их успеха».
— Как Вы оцениваете такой результат?
— Я поделюсь своими наблюдениями, скорее, не как ректор, а как человек, включенный в экспертную деятельность высшей школы. Сейчас основной выбор абитуриентов касается города обучения. В Санкт-Петербурге, к сожалению, последние годы складывается ситуация, что самые сильные выпускники школ, особенно победители всероссийских олимпиад, уезжают учиться в Москву. Лет десять назад невозможно было даже предположить, что это станет массовым процессом.
Культурная и социальная среда столицы, ее разнообразие и возможности выглядят для наших детей представительнее и притягательнее, чем в Петербурге. А люди сегодня ждут от высшего образования как раз того, что оно станет некой гарантией их успеха.
Отток выпускников школ в Москву — это большой вызов для петербургских вузов и, к сожалению, устойчивый заметный тренд, который беспокоит и директоров ведущих школ, и ректоров.
— Я поделюсь своими наблюдениями, скорее, не как ректор, а как человек, включенный в экспертную деятельность высшей школы. Сейчас основной выбор абитуриентов касается города обучения. В Санкт-Петербурге, к сожалению, последние годы складывается ситуация, что самые сильные выпускники школ, особенно победители всероссийских олимпиад, уезжают учиться в Москву. Лет десять назад невозможно было даже предположить, что это станет массовым процессом.
Культурная и социальная среда столицы, ее разнообразие и возможности выглядят для наших детей представительнее и притягательнее, чем в Петербурге. А люди сегодня ждут от высшего образования как раз того, что оно станет некой гарантией их успеха.
Отток выпускников школ в Москву — это большой вызов для петербургских вузов и, к сожалению, устойчивый заметный тренд, который беспокоит и директоров ведущих школ, и ректоров.
— На нашей прошлой встрече Вы говорили, что выпускник обычной средней школы вполне может к вам поступить. Вопрос ни в коем случае не провокационный, нам интересны Ваши рассуждения. Кто для Алферовского университета более предпочтителен как абитуриент: стобалльник ЕГЭ из любой районной школы или выпускник специальной математической школы с меньшим количеством баллов?
— Оба хороши, если у них есть главное — мотивация, желание стать частью той научно-образовательной и культурной среды, которую предлагает университет. И оба таких абитуриента нам были бы неинтересны, если они пришли к нам без желания понять, что здесь происходит.
Высокобалльник из физмат-школы, конечно, нам интересен, но если он зациклен только лишь на быстрых победах в олимпиадах, боюсь, учеба в университете его может разочаровать, потому что мы-то его будем в течение минимум десяти лет настраивать на исследовательскую работу, а там далеко не всегда случаются одни триумфы. В то же время и слабо подготовленному ребенку у нас будет сложно учиться.
— Оба хороши, если у них есть главное — мотивация, желание стать частью той научно-образовательной и культурной среды, которую предлагает университет. И оба таких абитуриента нам были бы неинтересны, если они пришли к нам без желания понять, что здесь происходит.
Высокобалльник из физмат-школы, конечно, нам интересен, но если он зациклен только лишь на быстрых победах в олимпиадах, боюсь, учеба в университете его может разочаровать, потому что мы-то его будем в течение минимум десяти лет настраивать на исследовательскую работу, а там далеко не всегда случаются одни триумфы. В то же время и слабо подготовленному ребенку у нас будет сложно учиться.
— Еще один вопрос по школьной теме. Сегодня высказываются предложения связать и как-то синхронизировать в школьной программе физику, химию и биологию как единый естественно-научный курс, потому что эти предметы часто преподают едва ли не как несвязанные друг с другом, или таковыми их часто воспринимают сами школьники. Появление такого курса облегчит университетам жизнь или особой роли не сыграет?
— На мой взгляд, появление такого предмета в школьной программе возможно, но не нужно, потому что породит целый ряд новых проблем. Во-первых, кто будет преподавать этот курс? В школах должны быть учителя, готовые работать в новом формате! Пока еще работают коллеги, которые получали педагогическое образование в конце 1980-х — начале 1990-х. Потом со школьным преподаванием естественных наук все стало гораздо хуже. Часто учителей по этим предметам либо не хватает, либо к качеству их работы есть справедливые претензии. Да и научно-методическая работа традиционно выстроена по отдельным предметам. Введение общего естественно-научного курса приведет к еще большему обострению этих проблем.
Во-вторых, более эффективным решением мне видится дополнение школьной программы тем, что во многих школах и так уже есть, — проектной работой. Серьезные учебные задачи в рамках междисциплинарных проектов как раз требуют от школьников комплексного понимания естественно-научных предметов. Думаю, это сняло бы те искусственные барьеры, что возникают иногда в преподавании естественных наук. Но в единый курс такого рода я не верю.
— На мой взгляд, появление такого предмета в школьной программе возможно, но не нужно, потому что породит целый ряд новых проблем. Во-первых, кто будет преподавать этот курс? В школах должны быть учителя, готовые работать в новом формате! Пока еще работают коллеги, которые получали педагогическое образование в конце 1980-х — начале 1990-х. Потом со школьным преподаванием естественных наук все стало гораздо хуже. Часто учителей по этим предметам либо не хватает, либо к качеству их работы есть справедливые претензии. Да и научно-методическая работа традиционно выстроена по отдельным предметам. Введение общего естественно-научного курса приведет к еще большему обострению этих проблем.
Во-вторых, более эффективным решением мне видится дополнение школьной программы тем, что во многих школах и так уже есть, — проектной работой. Серьезные учебные задачи в рамках междисциплинарных проектов как раз требуют от школьников комплексного понимания естественно-научных предметов. Думаю, это сняло бы те искусственные барьеры, что возникают иногда в преподавании естественных наук. Но в единый курс такого рода я не верю.
«Нет ничего хуже, когда вы вложились в подготовку исследователя, а тот не хочет или не может им быть».
— Вы сказали, что набор в Вашу физмат-школу начинается с 8 класса. А какой возраст наиболее подходит для того, чтобы начинать развивать у ребенка исследовательский интерес?
— Года в три, когда ребенок начинает думать осмысленно. Это возраст познания и пробуждения интереса к окружающему миру.
Позже, со школьниками это потребует уже системной работы, потому что организовать работу детей в научной лаборатории — непростая задача, которая включает соблюдение техники безопасности, нормативную базу. Но это очень важный этап подготовки будущего ученого: исследователь формируется в лаборатории, а не в школьном классе. И чем раньше это начнется, тем увереннее себя будет чувствовать человек, тем меньше ошибок потом придется исправлять. Нет ничего хуже, когда вы вложились в подготовку исследователя, а тот не хочет или не может им быть.
— Года в три, когда ребенок начинает думать осмысленно. Это возраст познания и пробуждения интереса к окружающему миру.
Позже, со школьниками это потребует уже системной работы, потому что организовать работу детей в научной лаборатории — непростая задача, которая включает соблюдение техники безопасности, нормативную базу. Но это очень важный этап подготовки будущего ученого: исследователь формируется в лаборатории, а не в школьном классе. И чем раньше это начнется, тем увереннее себя будет чувствовать человек, тем меньше ошибок потом придется исправлять. Нет ничего хуже, когда вы вложились в подготовку исследователя, а тот не хочет или не может им быть.
«На мой взгляд, бизнес не осознал до конца, что у него нет иного серьезного инструмента для получения наукоемких разработок, кроме университетов».
— А как сделать так, чтобы наука пронизывала все содержание университетской подготовки?
— Наука из хороших университетов никогда и не уходила, а последние 20 лет, в том числе усилиями государства, разного рода финансовыми и организационными механизмами, вузы еще сильнее развили свои научные школы. Теперь важно, чтобы на этот потенциал обратили внимание индустриальные партнеры.
Весь прошедший год мы с коллегами в значительной степени посвятили решению задачи: как сделать университет интересным для двух наших главных стейкхолдеров — абитуриентов и бизнеса, как стать субъектом инноваций и объектом инвестиций. Непростая задача, потому что в большинстве случаев университеты занимаются фундаментальными исследованиями, а бизнес интересует готовое решение в коротком горизонте. Но как проходить ту самую «долину смерти» без системы отраслевых исследовательских институтов? Богатый и сильный бизнес создает собственные исследовательские структуры, но в целом это сложная история для всех.
Давайте еще уточним: о какой науке мы говорим, прикладной или фундаментальной.
С фундаментальной все более-менее в порядке. Для вузов есть госзадание, гранты, разного рода премии, стипендии, в крупных городах действуют региональные программы поддержки науки.
С прикладной наукой все гораздо сложнее. Я в этом убедился в полной мере за прошедший год. В университет приходит бизнес, часто крупный, и спрашивает готовые решения здесь и сейчас. Но мы-то понимаем, что в ту разработку, с которой они хотят получить прибыль в сотни миллионов рублей, сначала надо вложить десятки миллионов, которых у университета нет. На мой взгляд, бизнес не осознал до конца, что у него нет иного серьезного инструмента для получения наукоемких разработок, кроме университетов. Особенно тех разработок, доступ к которым последние три года ограничен. Но реальных шагов для изменения этого отношения я пока не вижу.
— Наука из хороших университетов никогда и не уходила, а последние 20 лет, в том числе усилиями государства, разного рода финансовыми и организационными механизмами, вузы еще сильнее развили свои научные школы. Теперь важно, чтобы на этот потенциал обратили внимание индустриальные партнеры.
Весь прошедший год мы с коллегами в значительной степени посвятили решению задачи: как сделать университет интересным для двух наших главных стейкхолдеров — абитуриентов и бизнеса, как стать субъектом инноваций и объектом инвестиций. Непростая задача, потому что в большинстве случаев университеты занимаются фундаментальными исследованиями, а бизнес интересует готовое решение в коротком горизонте. Но как проходить ту самую «долину смерти» без системы отраслевых исследовательских институтов? Богатый и сильный бизнес создает собственные исследовательские структуры, но в целом это сложная история для всех.
Давайте еще уточним: о какой науке мы говорим, прикладной или фундаментальной.
С фундаментальной все более-менее в порядке. Для вузов есть госзадание, гранты, разного рода премии, стипендии, в крупных городах действуют региональные программы поддержки науки.
С прикладной наукой все гораздо сложнее. Я в этом убедился в полной мере за прошедший год. В университет приходит бизнес, часто крупный, и спрашивает готовые решения здесь и сейчас. Но мы-то понимаем, что в ту разработку, с которой они хотят получить прибыль в сотни миллионов рублей, сначала надо вложить десятки миллионов, которых у университета нет. На мой взгляд, бизнес не осознал до конца, что у него нет иного серьезного инструмента для получения наукоемких разработок, кроме университетов. Особенно тех разработок, доступ к которым последние три года ограничен. Но реальных шагов для изменения этого отношения я пока не вижу.
— Вернемся к той оригинальной методике взращивания ученых, что применяется в Алферовском университете, к модели: «физмат-школа → академический университет → большая наука». Есть ли у Вас опасения, переживания по поводу того, что в будущем что-то может ей препятствовать?
— Сегодня множество экспертов размышляют о новой национальной системе образования. Понятно, что она должна вобрать лучшие практики со всего мира, но при этом отвечать задачам развития нашей страны, работать на Россию в первую очередь. Мое глубокое убеждение в том, что это должна быть единая система, но ее компоненты не должны быть одинаковыми.
Если Алферовский университет умеет хорошо готовить исследователей: физиков, нанотехнологов, биоинформатиков, не надо это образование делать массовым. Наш годовый выпуск вполне соответствует запросам ведущих научно-образовательных центров. А финансирование университета сейчас идет как раз по модели массового образования. В этой ситуации мы, университет с неполными тремя сотнями студентов, конкурируем с вузами, где обучаются десятки тысяч человек.
Так что для нас угроза заключается в том, что при создании и отработке новой модели образования может быть не замечена или не учтена роль таких нишевых университетов, как Алферовский, а ведь их на всю страну не больше пяти.
— Сегодня множество экспертов размышляют о новой национальной системе образования. Понятно, что она должна вобрать лучшие практики со всего мира, но при этом отвечать задачам развития нашей страны, работать на Россию в первую очередь. Мое глубокое убеждение в том, что это должна быть единая система, но ее компоненты не должны быть одинаковыми.
Если Алферовский университет умеет хорошо готовить исследователей: физиков, нанотехнологов, биоинформатиков, не надо это образование делать массовым. Наш годовый выпуск вполне соответствует запросам ведущих научно-образовательных центров. А финансирование университета сейчас идет как раз по модели массового образования. В этой ситуации мы, университет с неполными тремя сотнями студентов, конкурируем с вузами, где обучаются десятки тысяч человек.
Так что для нас угроза заключается в том, что при создании и отработке новой модели образования может быть не замечена или не учтена роль таких нишевых университетов, как Алферовский, а ведь их на всю страну не больше пяти.
— Ваша модель не растиражирована в других университетах страны. Есть ли вообще потребность в ее масштабируемости? И возможно ли это?
— Я не вижу перспективы для масштабируемости модели Академического университета. На мой взгляд, в этом случае может быть потеряно главное, что в ней есть — особая академическая культура. В наш университет эту ценность привнесли отцы-основатели во главе с Жоресом Ивановичем Алферовым, и ее бережно берегут здесь уже четверть века. И потом у нас есть своя особая задача — готовить исследователей для петербургского кластера физики, химии, биологии, нанотехнологий и биоинформатики.
— Я не вижу перспективы для масштабируемости модели Академического университета. На мой взгляд, в этом случае может быть потеряно главное, что в ней есть — особая академическая культура. В наш университет эту ценность привнесли отцы-основатели во главе с Жоресом Ивановичем Алферовым, и ее бережно берегут здесь уже четверть века. И потом у нас есть своя особая задача — готовить исследователей для петербургского кластера физики, химии, биологии, нанотехнологий и биоинформатики.
— И при этом вы конкурируете с другими университетами…
— Мы находимся в жесткой конкурентной среде, прежде всего — за того абитуриента, который имеет кондиции, необходимые для обучения в нашем университете. За абитуриента, для которого важно не получение диплома, а образование, формирующее его конкурентоспособность как высококвалифицированного исследователя.
Мы конкурируем за одного и того же абитуриента не с техническими университетами, а с МФТИ, Университетом ИТМО и отчасти с Высшей школой экономики. Это три наших основных конкурента в стране.
— Мы находимся в жесткой конкурентной среде, прежде всего — за того абитуриента, который имеет кондиции, необходимые для обучения в нашем университете. За абитуриента, для которого важно не получение диплома, а образование, формирующее его конкурентоспособность как высококвалифицированного исследователя.
Мы конкурируем за одного и того же абитуриента не с техническими университетами, а с МФТИ, Университетом ИТМО и отчасти с Высшей школой экономики. Это три наших основных конкурента в стране.
— У вас в некотором роде «героическая» позиция: нишевый университет конкурирует с тремя сильнейшими вузами России, с совершенно другими бюджетными возможностями.
— Да, мы, как пастушок Давид.
У нас с коллективом стоит задача набрать на следующий год 65 студентов, которые придут к нам после школы, и столько же человек, которые выберут наш университет для получения магистерского образования. Это в буквальном смысле адресная работа с конкретными людьми, в которую вовлечены все работники, включая лично ректора. Подготовка исследователей всегда предполагает взаимодействие двух людей: научного работника или преподавателя и студента. У нас невозможна ситуация, когда лектор даже не знает, сколько человек у него находится в аудитории, мы знаем всех своих студентов по именам.
— Да, мы, как пастушок Давид.
У нас с коллективом стоит задача набрать на следующий год 65 студентов, которые придут к нам после школы, и столько же человек, которые выберут наш университет для получения магистерского образования. Это в буквальном смысле адресная работа с конкретными людьми, в которую вовлечены все работники, включая лично ректора. Подготовка исследователей всегда предполагает взаимодействие двух людей: научного работника или преподавателя и студента. У нас невозможна ситуация, когда лектор даже не знает, сколько человек у него находится в аудитории, мы знаем всех своих студентов по именам.
«Думаю, в обществе будет запрос на дорогое элитное офлайн-образование и недорогое «реальное», и экономика начнет разрушать кажущуюся монолитность той модели образования, которая сформировалась в стране в последние десятилетия».
— Вы разделяете предположение, что высшее офлайн-образование в будущем станет уникальным и едва ли не элитным? И если так произойдет, означает ли это, что фактически мы уйдем от массового высшего образования?
— Ничто не ново под луной. Несколько столетий назад в университетах было всего три факультета: богословский, медицинский и юридический.
В конце ХIХ века как антитеза образованию теоретическому появилось образование прикладное с практико-ориентированной подготовкой и минимизацией абстрактной теории. Теперь мы снова возвращаемся к выбору модели образования, который подкрепляется в том числе запросами экономики и общества, финансовой мотивацией, и задаемся вопросом: а надо ли всех учить одинаково? Сохранится ли высшее образование в том виде, каким мы его знаем?
Думаю, в обществе будет запрос на дорогое элитное офлайн-образование и недорогое «реальное», и экономика начнет разрушать кажущуюся монолитность той модели образования, которая сформировалась в стране в последние десятилетия. Вузы, которые сегодня опираются на хорошее финансирование, на связи, на серьезное сообщество своих выпускников и крупных промышленных партнеров, будут только укрепляться.
— Ничто не ново под луной. Несколько столетий назад в университетах было всего три факультета: богословский, медицинский и юридический.
В конце ХIХ века как антитеза образованию теоретическому появилось образование прикладное с практико-ориентированной подготовкой и минимизацией абстрактной теории. Теперь мы снова возвращаемся к выбору модели образования, который подкрепляется в том числе запросами экономики и общества, финансовой мотивацией, и задаемся вопросом: а надо ли всех учить одинаково? Сохранится ли высшее образование в том виде, каким мы его знаем?
Думаю, в обществе будет запрос на дорогое элитное офлайн-образование и недорогое «реальное», и экономика начнет разрушать кажущуюся монолитность той модели образования, которая сформировалась в стране в последние десятилетия. Вузы, которые сегодня опираются на хорошее финансирование, на связи, на серьезное сообщество своих выпускников и крупных промышленных партнеров, будут только укрепляться.
— Придем ли мы тогда к той позиции, что высказал недавно Андрей Евгеньевич Волков, научный руководитель программы «Приоритет-2030»: «Университет — это место для мышления в первую очередь…»?
— Надеюсь, появится запрос на то, чтобы университету стать местом, где рождаются идеи и управленческие решения. Мой опыт показывает, что траектория развития вуза часто зависит от позиции руководителя региона. Если он понимает, что другого регионального think tank (научно-исследовательская аналитическая организация — Прим. ред.) у него кроме университета нет (а часто так и есть), тогда к последнему появляется осмысленный запрос на новые функции, на который университет отвечает запуском определенных внутренних процессов, и у него возникает новая ипостась, о которой говорит Андрей Евгеньевич. Если такого встречного движения нет, вуз рискует превратиться в пресловутую кузницу кадров.
Многие университеты в нашей стране создавались как сугубо прикладные. Например, МФТИ. Изначально это был институт, плотно связанный с ядерным проектом, но люди, создававшие его, — в первую очередь П. Л. Капица и его команда, понимали, что такой институт не может не работать в том исконном смысле, о котором и говорит А. Е. Волков, — как пространство для науки, мышления, поиска новых идей, эксперимента, научных споров. Тогда это и есть настоящий университет.
— Надеюсь, появится запрос на то, чтобы университету стать местом, где рождаются идеи и управленческие решения. Мой опыт показывает, что траектория развития вуза часто зависит от позиции руководителя региона. Если он понимает, что другого регионального think tank (научно-исследовательская аналитическая организация — Прим. ред.) у него кроме университета нет (а часто так и есть), тогда к последнему появляется осмысленный запрос на новые функции, на который университет отвечает запуском определенных внутренних процессов, и у него возникает новая ипостась, о которой говорит Андрей Евгеньевич. Если такого встречного движения нет, вуз рискует превратиться в пресловутую кузницу кадров.
Многие университеты в нашей стране создавались как сугубо прикладные. Например, МФТИ. Изначально это был институт, плотно связанный с ядерным проектом, но люди, создававшие его, — в первую очередь П. Л. Капица и его команда, понимали, что такой институт не может не работать в том исконном смысле, о котором и говорит А. Е. Волков, — как пространство для науки, мышления, поиска новых идей, эксперимента, научных споров. Тогда это и есть настоящий университет.
— Александр Рудольфович, завершить наш разговор хотелось бы вопросом о надеждах, связанных прежде всего с молодыми российскими учеными. Когда-то группа исследователей под руководством Ж. И. Алферова изобрела в лаборатории ленинградского Физтеха лазер, что привело к развитию множества современных технологий, в том числе тех, что все мы ежедневно используем в быту. Сегодня в российских научных центрах возможны открытия, совершенные молодыми учеными, которые, без преувеличения, изменят мир?
— Возможны, и их уже совершают. На днях на слушаниях по науке и высшему образованию в Федеральном Собрании было озвучено: более трети научных исследований в нашей стране ведутся учеными в возрасте до 39 лет. Для них созданы 940 новых лабораторий. У нашей молодежи в науке очень серьезный потенциал.
Что должно быть у молодого ученого? Достойная заработная плата и условия, с помощью которых он сможет заниматься любимым делом — научными исследованиями. И я вижу по нашим ребятам, что такие возможности у них есть.
Развивается академическая мобильность. Это и стажировки, и разного рода научные конференции. Недавно в Москве проходила большая отраслевая выставка «Фотоника», куда ездила наша команда. Накануне я спросил у них: зачем едете? Понятно, что для того, чтобы показать свои разработки, оборудование, но самая главная задача — найти партнеров, которым эти разработки нужны, и создать коллаборации, с помощью которых можно двигаться дальше.
Наиболее интересные, с моей точки зрения, области, где нашей стране есть что показать, — это все, что связано с квантовыми коммуникациями и технологиями, с созданием фотонных интегральных схем, передачей квантовой информации и криптографией. И конечно, биотехнология, биофизика. Крайне интересные области — биосенсорика и микрофлюидика. Мне кажется, именно в этих направлениях будут Нобелевские премии в ближайшие годы. И с нашим качеством жизни все это тоже будет связано.
— Возможны, и их уже совершают. На днях на слушаниях по науке и высшему образованию в Федеральном Собрании было озвучено: более трети научных исследований в нашей стране ведутся учеными в возрасте до 39 лет. Для них созданы 940 новых лабораторий. У нашей молодежи в науке очень серьезный потенциал.
Что должно быть у молодого ученого? Достойная заработная плата и условия, с помощью которых он сможет заниматься любимым делом — научными исследованиями. И я вижу по нашим ребятам, что такие возможности у них есть.
Развивается академическая мобильность. Это и стажировки, и разного рода научные конференции. Недавно в Москве проходила большая отраслевая выставка «Фотоника», куда ездила наша команда. Накануне я спросил у них: зачем едете? Понятно, что для того, чтобы показать свои разработки, оборудование, но самая главная задача — найти партнеров, которым эти разработки нужны, и создать коллаборации, с помощью которых можно двигаться дальше.
Наиболее интересные, с моей точки зрения, области, где нашей стране есть что показать, — это все, что связано с квантовыми коммуникациями и технологиями, с созданием фотонных интегральных схем, передачей квантовой информации и криптографией. И конечно, биотехнология, биофизика. Крайне интересные области — биосенсорика и микрофлюидика. Мне кажется, именно в этих направлениях будут Нобелевские премии в ближайшие годы. И с нашим качеством жизни все это тоже будет связано.
22 апреля / 2025
Беседовали: Александр Никифоров, Екатерина Позднякова
Текст подготовила: Екатерина Позднякова
Материал подготовлен редакцией издания «Ректор говорит!». При копировании ссылка на издание «Ректор говорит!» обязательна.
Текст подготовила: Екатерина Позднякова
Материал подготовлен редакцией издания «Ректор говорит!». При копировании ссылка на издание «Ректор говорит!» обязательна.
[ Рассылка ]
Каждую неделю — новый материал
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, сенсационных научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, сенсационных научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Подписаться на рассылку
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми получать актуальную информацию о высшем образовании от руководства учебных и научных организаций, экспертов в области высшего образования и представителей профильных министерств.