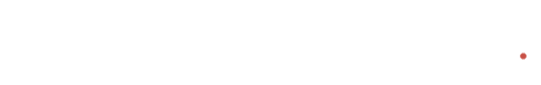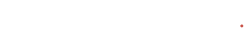Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Отправляя форму, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
«Университеты живут долго. Может, даже вечно»
Интервью с ректором Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадимом Волковым.
Почему университеты долговечнее государств и корпораций? Как гуманитарное знание направить не в прошлое, а в будущее? И что делает Европейский университет в Санкт-Петербурге местом, куда приходят за новым опытом исследования и преподавания?
О роли университетов в меняющемся мире, о миссии социогуманитарных наук и о том, как внутри академического сообщества возникают субкультуры, мы поговорили с ректором Европейского университета Вадимом Волковым.

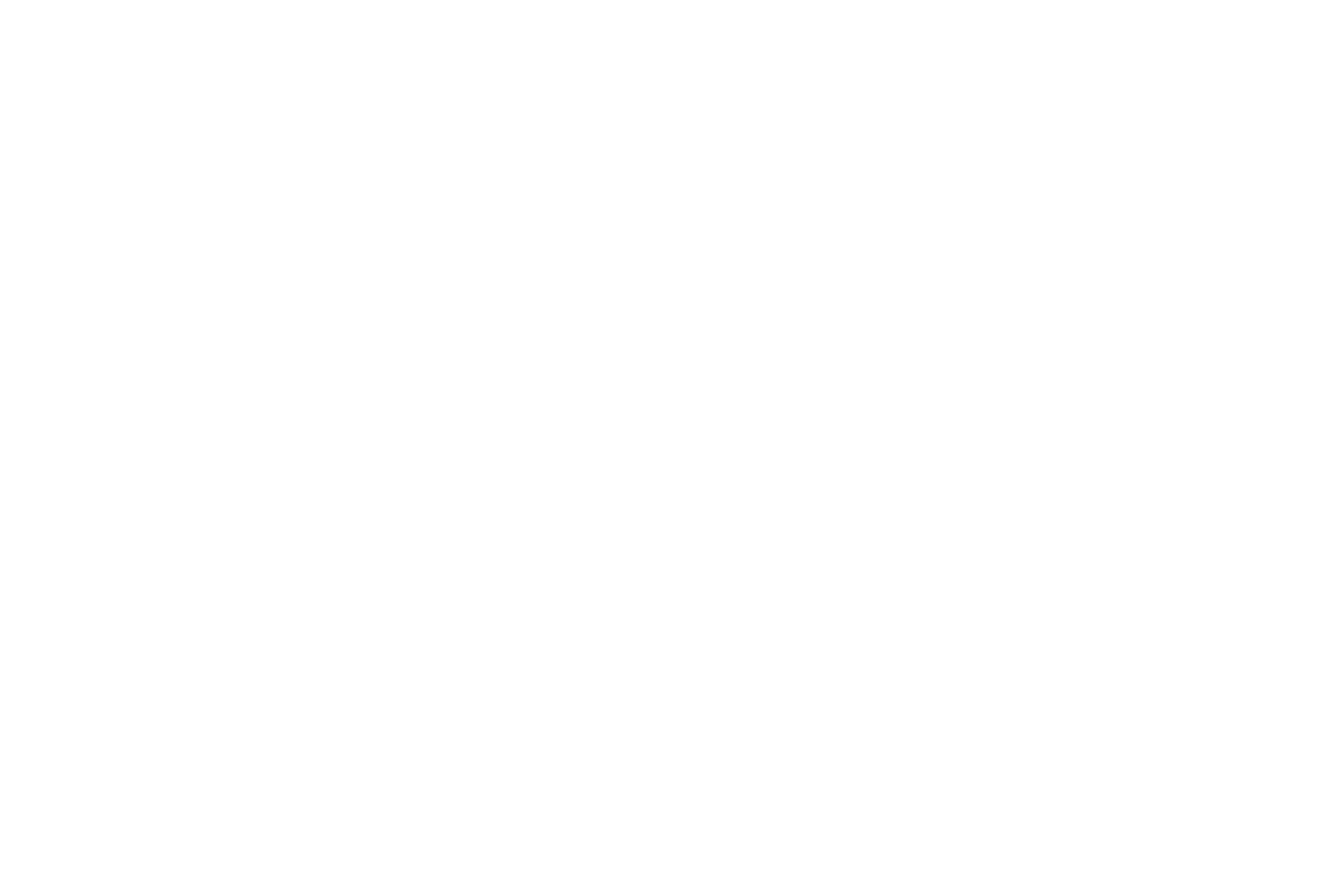
«Университеты не имеют ни политической, ни экономической цели, их миссия — это накопление и передача знаний, наука, просвещение, что соответствует природе нашей цивилизации».
— Вадим Викторович, прежде чем спросить Вас о Европейском университете в Санкт-Петербурге, вспомним о европейских университетах вообще, — одной из самых устойчивых в мире институций. Профессор и академический администратор Кларк Керр отмечал: «…около 85 учреждений в западном мире, основанных до 1520 года, до сих пор существуют в узнаваемом виде, с аналогичными функциями и непрерывной историей. Среди них — католическая церковь, парламенты острова Мэн, Исландии и Великобритании, несколько швейцарских кантонов и около семидесяти университетов…»*.
Так почему, на Ваш взгляд, университеты не исчезают, в отличие от государств или частных компаний, банков? В чем секрет их устойчивости и жизнеспособности?
— Университеты воспитывают тех, кто потом становится элитой и правящим классом. Это та самая альма-матер, благодаря которой многие из этих людей стали теми, кем они стали. Даже если вокруг университетов возникали религиозные и политические конфликты, никто их не закрывал. Наоборот, университетам завещали целые состояния.
Другая причина устойчивости в том, что университеты — это учреждения с миссией. Фирмы, компании создаются для прибыли, пусть и декларируют какую-либо полезную миссию. Пока они прибыльны, они успешны. Когда меняются рынки, они терпят убытки и исчезают. Политические единицы, государства тоже существуют в остро конкурентном мире и периодически исчезают, хотя некоторые живут тысячу лет и более. Университеты не имеют ни политической, ни экономической цели, их миссия — это накопление и передача знаний, наука, просвещение, что соответствует природе нашей цивилизации.
И вот еще фактор: особая модель управления. Университеты автономны, решения в них принимаются коллегиально и достаточно медленно, после обсуждений с профессорским сообществом. Такой способ, как правило, помогает избегать рискованных решений. Хотя совсем недавно мы были свидетелями ситуации, когда политизация некоторых мировых университетов привела их к конфликтам с властями. Но это, скорее, исключение, и взаимная адаптация произошла довольно быстро. Большинство же университетов, будучи организациями с миссией и коллегиальным управлением, не мыслят категориями прибыли и не лезут в политику. Их финансовое состояние может меняться в зависимости от политической и рыночной ситуации, они тоже могут процветать или быть в упадке, адаптироваться и реагировать на изменения, но исчезают редко.
Так почему, на Ваш взгляд, университеты не исчезают, в отличие от государств или частных компаний, банков? В чем секрет их устойчивости и жизнеспособности?
— Университеты воспитывают тех, кто потом становится элитой и правящим классом. Это та самая альма-матер, благодаря которой многие из этих людей стали теми, кем они стали. Даже если вокруг университетов возникали религиозные и политические конфликты, никто их не закрывал. Наоборот, университетам завещали целые состояния.
Другая причина устойчивости в том, что университеты — это учреждения с миссией. Фирмы, компании создаются для прибыли, пусть и декларируют какую-либо полезную миссию. Пока они прибыльны, они успешны. Когда меняются рынки, они терпят убытки и исчезают. Политические единицы, государства тоже существуют в остро конкурентном мире и периодически исчезают, хотя некоторые живут тысячу лет и более. Университеты не имеют ни политической, ни экономической цели, их миссия — это накопление и передача знаний, наука, просвещение, что соответствует природе нашей цивилизации.
И вот еще фактор: особая модель управления. Университеты автономны, решения в них принимаются коллегиально и достаточно медленно, после обсуждений с профессорским сообществом. Такой способ, как правило, помогает избегать рискованных решений. Хотя совсем недавно мы были свидетелями ситуации, когда политизация некоторых мировых университетов привела их к конфликтам с властями. Но это, скорее, исключение, и взаимная адаптация произошла довольно быстро. Большинство же университетов, будучи организациями с миссией и коллегиальным управлением, не мыслят категориями прибыли и не лезут в политику. Их финансовое состояние может меняться в зависимости от политической и рыночной ситуации, они тоже могут процветать или быть в упадке, адаптироваться и реагировать на изменения, но исчезают редко.
— А Европейский университет в Санкт-Петербурге с момента основания стремится к устойчивости, не изменяя своей идее создания, или же наоборот — гибко реагирует на изменения?
— Ни один университет, особенно из тех, что были основаны столетия назад, не сохранился в первоначальном виде. Первый в мире Болонский университет, созданный в XI веке, изначально был только школой толкования римского права. Многие университеты рождались из небольшой религиозной школы, потом расширялись и становились полноценными университетами с несколькими уровнями образования и широким набором дисциплин.
На фоне других у Европейского университета в Санкт-Петербурге еще детский возраст, ему 30 лет. Создавался он тоже под конкретную задачу: преодолеть отставание России в области социальных и гуманитарных наук, оставшееся после Советского Союза, где передовыми были физико-математические и технические дисциплины, связанные с потребностями промышленности и обороны. Социогуманитарная область, за исключением нескольких дисциплин, например, лингвистики и этнографии, отставала, потому что была ближе к идеологии, чем к науке. Этот разрыв необходимо было преодолеть и вывести российскую социогуманитарную науку на международный уровень. Поэтому основатели выбрали формат магистратуры и аспирантуры. И ориентировались на ведущие мировые научные школы, на международную кооперацию. Цель была — быстро вырастить новое поколение ученых и преподавателей, которые бы работали по современным стандартам социальных наук.
— Ни один университет, особенно из тех, что были основаны столетия назад, не сохранился в первоначальном виде. Первый в мире Болонский университет, созданный в XI веке, изначально был только школой толкования римского права. Многие университеты рождались из небольшой религиозной школы, потом расширялись и становились полноценными университетами с несколькими уровнями образования и широким набором дисциплин.
На фоне других у Европейского университета в Санкт-Петербурге еще детский возраст, ему 30 лет. Создавался он тоже под конкретную задачу: преодолеть отставание России в области социальных и гуманитарных наук, оставшееся после Советского Союза, где передовыми были физико-математические и технические дисциплины, связанные с потребностями промышленности и обороны. Социогуманитарная область, за исключением нескольких дисциплин, например, лингвистики и этнографии, отставала, потому что была ближе к идеологии, чем к науке. Этот разрыв необходимо было преодолеть и вывести российскую социогуманитарную науку на международный уровень. Поэтому основатели выбрали формат магистратуры и аспирантуры. И ориентировались на ведущие мировые научные школы, на международную кооперацию. Цель была — быстро вырастить новое поколение ученых и преподавателей, которые бы работали по современным стандартам социальных наук.
— Это удалось? Сколько нужно времени, чтобы решать такие задачи?
— Да, лет за 20 это удалось, хотя, конечно, мы не единственные, кто ставил такие задачи. В России в 1990-е появилась целая когорта новых университетов, государственных и негосударственных, которые сегодня признаются за пределами страны благодаря публикациям, участию в международных проектах и присутствию на рынке образования.
— Да, лет за 20 это удалось, хотя, конечно, мы не единственные, кто ставил такие задачи. В России в 1990-е появилась целая когорта новых университетов, государственных и негосударственных, которые сегодня признаются за пределами страны благодаря публикациям, участию в международных проектах и присутствию на рынке образования.
— Вы отметили, что Европейский университет создавался с миссией преодолеть отставание России в развитии социогуманитарной науки. Сегодня это исследовательский университет постдипломного образования с программами магистратуры и аспирантуры по истории, философии, антропологии, экономике, социологии, искусствам. Для чего — в широком профессиональном плане — к вам приходят учиться?
— Наши выпускники уже возглавляют кафедры и факультеты в известных университетах нашей страны. Многие работают в экспертных учреждениях, средствах массовой информации, учреждениях культуры, зарубежных университетах. Наша первоначальная миссия выполнена. Тем более, что сфера науки и высшего образования — это ограниченный рынок. Любое перепроизводство ведет к тому, что падает престиж профессии, а с этим — качество абитуриентов на входе.
Поэтому сейчас идет пересмотр целей — в сторону подготовки специалистов, умеющих работать за пределами науки и образования, в гораздо более широком наборе отраслей и компаний, в корпоративном, технологичном секторе. Это связано прежде всего с технологической революцией и кризисом социогуманитарных наук.
— Наши выпускники уже возглавляют кафедры и факультеты в известных университетах нашей страны. Многие работают в экспертных учреждениях, средствах массовой информации, учреждениях культуры, зарубежных университетах. Наша первоначальная миссия выполнена. Тем более, что сфера науки и высшего образования — это ограниченный рынок. Любое перепроизводство ведет к тому, что падает престиж профессии, а с этим — качество абитуриентов на входе.
Поэтому сейчас идет пересмотр целей — в сторону подготовки специалистов, умеющих работать за пределами науки и образования, в гораздо более широком наборе отраслей и компаний, в корпоративном, технологичном секторе. Это связано прежде всего с технологической революцией и кризисом социогуманитарных наук.
— Что вы считаете своей нишей?
— Наверное мы действительно занимаем определенную нишу. В моем понимании, это «плохое» слово, означающее что-то маленькое, на нижнем уровне. Университет не может быть «нишевым». Поэтому наша задача последних 5–7 лет — выйти за пределы этой ниши, трансформироваться, перестать быть исключительно социогуманитарным вузом и развиваться в междисциплинарных областях. Для этого мы идем в сторону компьютерных наук, математики, в те сферы, где технические науки пересекаются с гуманитарными.
— Наверное мы действительно занимаем определенную нишу. В моем понимании, это «плохое» слово, означающее что-то маленькое, на нижнем уровне. Университет не может быть «нишевым». Поэтому наша задача последних 5–7 лет — выйти за пределы этой ниши, трансформироваться, перестать быть исключительно социогуманитарным вузом и развиваться в междисциплинарных областях. Для этого мы идем в сторону компьютерных наук, математики, в те сферы, где технические науки пересекаются с гуманитарными.
— Можете привести примеры таких сфер пересечения?
— Конечно. На стыке истории, археологии и генетики находится палеогеномика, такая лаборатория у нас интегрирована в Школу искусств и культурного наследия и включена в проекты по музейному делу. Так же и лаборатория «Искусственный интеллект в искусстве». Вычислительная лингвистика меняет способы анализа текстов и работы с архивами, а приложения по созданию баз данных для гуманитарных наук дают всем дисциплинам новые инструменты для накопления знаний. Следующий наш проект — создание интегрированной обучающей программы по математике, философии и компьютерным наукам.
— Конечно. На стыке истории, археологии и генетики находится палеогеномика, такая лаборатория у нас интегрирована в Школу искусств и культурного наследия и включена в проекты по музейному делу. Так же и лаборатория «Искусственный интеллект в искусстве». Вычислительная лингвистика меняет способы анализа текстов и работы с архивами, а приложения по созданию баз данных для гуманитарных наук дают всем дисциплинам новые инструменты для накопления знаний. Следующий наш проект — создание интегрированной обучающей программы по математике, философии и компьютерным наукам.
«Прежняя матрица социогуманитарных наук исчерпывается. Знания, основанные на наблюдениях, изменились, потому что изменились способы наблюдения и сами данные».
— А что заставляет Европейский университет двигаться в другие области?
— Прежняя матрица социогуманитарных наук исчерпывается. Знания, основанные на наблюдениях, изменились, потому что изменились способы наблюдения и сами данные. Методы науки тоже меняются из-за ускоренного развития технологий производства, сбора и обработки данных, вмешательства искусственного интеллекта. Долгое время информационно-технологическая революция шла своим путем, а социогуманитарные науки — своим. Их развитие замедлилось, престиж стал падать, потому что престижно то, что технологично. Европейский университет находится на переднем крае социогуманитарных наук, но то, на переднем крае чего он находится, само по себе передним краем уже не является.
Наша новая задача заключается в том, чтобы снова сделать социогуманитарные науки привлекательными, какими они были в прошлом веке, синтезируя их с передовыми технологическими решениями. Тогда эта сфера получит новую жизнь, снова станет захватывающей и привлечет новое поколение ярких молодых людей.
— Прежняя матрица социогуманитарных наук исчерпывается. Знания, основанные на наблюдениях, изменились, потому что изменились способы наблюдения и сами данные. Методы науки тоже меняются из-за ускоренного развития технологий производства, сбора и обработки данных, вмешательства искусственного интеллекта. Долгое время информационно-технологическая революция шла своим путем, а социогуманитарные науки — своим. Их развитие замедлилось, престиж стал падать, потому что престижно то, что технологично. Европейский университет находится на переднем крае социогуманитарных наук, но то, на переднем крае чего он находится, само по себе передним краем уже не является.
Наша новая задача заключается в том, чтобы снова сделать социогуманитарные науки привлекательными, какими они были в прошлом веке, синтезируя их с передовыми технологическими решениями. Тогда эта сфера получит новую жизнь, снова станет захватывающей и привлечет новое поколение ярких молодых людей.
«Сами по себе технологии не имеют ни воли, ни смысла. Гуманитарные науки являются источником смыслов и могут сделать технологии осмысленными и определить их вектор».
— То, о чем Вы говорите, очень интересно, потому что, размышляя о социогуманитарных науках, их часто связывают исключительно с наследием, традициями, сохранением прошлого, то есть с оглядкой назад. Вы же этот социогуманитарный «прожектор» направляете вперед: случилась технологическая революция, мир изменился, а значит и социогуманитарное знание должно быть по-новому встроено в эту реальность.
— Мы можем еще и с другой стороны на это посмотреть. Технологии несут риски. Сами по себе технологии не имеют ни воли, ни смысла. Гуманитарные науки являются источником смыслов и могут сделать технологии осмысленными и определить их вектор. Иначе не факт, что искусственный интеллект сделает нас счастливыми и свободными. Во многих ведущих центрах разработки происходит поиск социальной концепции ИИ, поиск того, как он встраивается в жизнь человека и сообщества, каковы его ролевые модели. Программисты, разработчики выполняют технические задачи. А есть еще этические задачи, и чтобы их решать, нужно обладать знаниями за пределами программирования.
— Мы можем еще и с другой стороны на это посмотреть. Технологии несут риски. Сами по себе технологии не имеют ни воли, ни смысла. Гуманитарные науки являются источником смыслов и могут сделать технологии осмысленными и определить их вектор. Иначе не факт, что искусственный интеллект сделает нас счастливыми и свободными. Во многих ведущих центрах разработки происходит поиск социальной концепции ИИ, поиск того, как он встраивается в жизнь человека и сообщества, каковы его ролевые модели. Программисты, разработчики выполняют технические задачи. А есть еще этические задачи, и чтобы их решать, нужно обладать знаниями за пределами программирования.
— Как Вы оцениваете текущее состояние социальных наук?
— В социогуманитарных науках изначально есть проблема с объективностью. В них всегда пытаются встроить чьи-то интересы: исследователя, группы, политической партии, бюрократии, и производимое знание может искажаться под влиянием интересов. Это особенно любят делать «левые». Но не только. Какая-то область может познаваться с точки зрения потенциальной управляемости или в качестве инструмента политической борьбы. Социология, например, регулярно сводится к идеологическому инструменту, ассоциируется с исследованиями общественного мнения или предпочтениями потенциальных покупателей. В физике тоже есть интересы групп, или институций, или правительств, но они не затрагивают метод и никак не могут влиять на процедуру и результат, потому что он базово объективен. В социогуманитарных науках интересы колонизируют и выбор проблемы, и даже метод.
Провинциальность, самобытность в постановке проблем и методологическую отсталость в социогуманитарных науках мы уже преодолели. В международном масштабе сейчас проблема заключается в том, чтобы отделить научное высказывание от идеологического. Работа с большими данными, их сбор и анализ предоставляют возможность социогуманитарным наукам выйти на более высокий уровень доказательности. Информационные технологии дают надежду на выход из тупика. Но пока только надежду.
— В социогуманитарных науках изначально есть проблема с объективностью. В них всегда пытаются встроить чьи-то интересы: исследователя, группы, политической партии, бюрократии, и производимое знание может искажаться под влиянием интересов. Это особенно любят делать «левые». Но не только. Какая-то область может познаваться с точки зрения потенциальной управляемости или в качестве инструмента политической борьбы. Социология, например, регулярно сводится к идеологическому инструменту, ассоциируется с исследованиями общественного мнения или предпочтениями потенциальных покупателей. В физике тоже есть интересы групп, или институций, или правительств, но они не затрагивают метод и никак не могут влиять на процедуру и результат, потому что он базово объективен. В социогуманитарных науках интересы колонизируют и выбор проблемы, и даже метод.
Провинциальность, самобытность в постановке проблем и методологическую отсталость в социогуманитарных науках мы уже преодолели. В международном масштабе сейчас проблема заключается в том, чтобы отделить научное высказывание от идеологического. Работа с большими данными, их сбор и анализ предоставляют возможность социогуманитарным наукам выйти на более высокий уровень доказательности. Информационные технологии дают надежду на выход из тупика. Но пока только надежду.
— Хотелось бы еще узнать про образовательный процесс в Европейском университете и про его участника — преподавателя. Какой он? Является ли обязательным условием для работы у вас наличие зарубежного образования?
— Главный критерий — это умение человека заниматься наукой и наличие у него или у нее достижений в области исследований. Оцениваются публикации, участие или руководство исследовательскими проектами, научная и преподавательская репутация. Большинство преподавателей Европейского университета активные ученые, они в равной степени занимаются и преподаванием, и исследованиями, публикуются на двух языках: русском и английском.
Кто пробовал, знает, что добиться выхода своей статьи в журнале первого квартиля на английском языке довольно трудно. Как правило, это болезненный опыт. Наличие у автора международного образования дает больше возможностей: легче писать, лучше знает научное поле, лучше умеет ставить вопросы, понимать собственный вклад в дисциплину.
Никаких формальных требований к наличию зарубежного образования у нас в университете нет. Это может стать преимуществом для кандидата, только если дает результаты. Но теперь и российское образование дает не меньше возможностей. В Европейском серьезный отбор на входе, но мало контроля внутри. Дальше есть доверие и возможности проявить себя. У нас есть материальные стимулы для публикаций. Но я верю, хотя может, и наивно, что они не имеют решающего значения. Настоящий ученый публикуется и проводит исследования не потому, что ему за это доплачивают, а потому, что он по-другому не может или потому что им движет воля к познанию или тщеславие.
А для университета важно формировать конкурентную субкультуру, где научные результаты и публикации будут фактором престижа и успеха. Премия — это приятное дополнение к научной или публикационной деятельности, но она не должна иметь решающего веса. Профессия — это и есть субкультура.
— Главный критерий — это умение человека заниматься наукой и наличие у него или у нее достижений в области исследований. Оцениваются публикации, участие или руководство исследовательскими проектами, научная и преподавательская репутация. Большинство преподавателей Европейского университета активные ученые, они в равной степени занимаются и преподаванием, и исследованиями, публикуются на двух языках: русском и английском.
Кто пробовал, знает, что добиться выхода своей статьи в журнале первого квартиля на английском языке довольно трудно. Как правило, это болезненный опыт. Наличие у автора международного образования дает больше возможностей: легче писать, лучше знает научное поле, лучше умеет ставить вопросы, понимать собственный вклад в дисциплину.
Никаких формальных требований к наличию зарубежного образования у нас в университете нет. Это может стать преимуществом для кандидата, только если дает результаты. Но теперь и российское образование дает не меньше возможностей. В Европейском серьезный отбор на входе, но мало контроля внутри. Дальше есть доверие и возможности проявить себя. У нас есть материальные стимулы для публикаций. Но я верю, хотя может, и наивно, что они не имеют решающего значения. Настоящий ученый публикуется и проводит исследования не потому, что ему за это доплачивают, а потому, что он по-другому не может или потому что им движет воля к познанию или тщеславие.
А для университета важно формировать конкурентную субкультуру, где научные результаты и публикации будут фактором престижа и успеха. Премия — это приятное дополнение к научной или публикационной деятельности, но она не должна иметь решающего веса. Профессия — это и есть субкультура.
«Научная и преподавательская работа, если в ней нет бюрократической нагрузки, — прекрасна, это высочайший способ реализации, выше него только искусство».
— Для Вас важно формировать научную субкультуру в университете разнообразно, чтобы в нем работали и те, кто настроен остаться в нем на многие годы, и, условно, космополиты с амбициями реализовать у вас большой проект и дальше продолжить карьеру в любой другой лаборатории мира? Или все это происходит у вас естественным образом?
— В идеале я хотел бы, чтобы Европейский университет управлялся не менеджериальными способами, не административным контролем, санкциями, отчетами, вертикальной иерархией, а через построение определенной субкультуры. Это тонкая вещь, в которой заложено стремление не подменять природу того, чем занимается преподаватель. Не требовать отчетность, не устанавливать показатели, а делать акцент на осмысленной, содержательной работе, потому что только в ней человек реализуется. Научная и преподавательская работа, если в ней нет бюрократической нагрузки, — прекрасна, это высочайший способ реализации, выше него только искусство. В науке человек, в хорошем смысле, пропадает, потому что иногда она делает его счастливым. Но пока это только идеал, потому что регулирование высшего образования у нас довольно плотное.
Уезжают ли от нас сотрудники? Да, уезжают. Значит, мы должны стать лучше, чтобы была сильнее гравитация. Международная конкуренция в науке высока, и люди, конечно, уезжают в другие университеты. Кто-то потом возвращается. Я сам четыре года был аспирантом в Англии, а после защиты вернулся в Петербург, как раз в Европейский. Академическая мобильность — коварная штука. При переезде кажется, что ты выбираешь другое место работы, другой университет. На самом деле ты выбираешь страну и культуру, в которой будешь жить. А это далеко не только университет.
— В идеале я хотел бы, чтобы Европейский университет управлялся не менеджериальными способами, не административным контролем, санкциями, отчетами, вертикальной иерархией, а через построение определенной субкультуры. Это тонкая вещь, в которой заложено стремление не подменять природу того, чем занимается преподаватель. Не требовать отчетность, не устанавливать показатели, а делать акцент на осмысленной, содержательной работе, потому что только в ней человек реализуется. Научная и преподавательская работа, если в ней нет бюрократической нагрузки, — прекрасна, это высочайший способ реализации, выше него только искусство. В науке человек, в хорошем смысле, пропадает, потому что иногда она делает его счастливым. Но пока это только идеал, потому что регулирование высшего образования у нас довольно плотное.
Уезжают ли от нас сотрудники? Да, уезжают. Значит, мы должны стать лучше, чтобы была сильнее гравитация. Международная конкуренция в науке высока, и люди, конечно, уезжают в другие университеты. Кто-то потом возвращается. Я сам четыре года был аспирантом в Англии, а после защиты вернулся в Петербург, как раз в Европейский. Академическая мобильность — коварная штука. При переезде кажется, что ты выбираешь другое место работы, другой университет. На самом деле ты выбираешь страну и культуру, в которой будешь жить. А это далеко не только университет.
— Особенность Европейского университета еще в том, что развитие его образовательных и научно-исследовательских программ происходит в том числе за счет привлечения финансирования от компаний, фондов, частных лиц и благотворителей. Это нетипично для российского образования. Как Вы полагаете, почему вам это удается, а большинству вузов — нет?
— Кто хочет, тот и может. У нас второй по величине эндаумент, по данным рейтинга. На первом месте — Сколтех. Третий — МГИМО, которому прекрасно удается наращивать фонд целевого капитала, у вуза много успешных выпускников. Высшая школа экономики, насколько я знаю, тоже активно привлекает корпоративное финансирование для развития своих центров и проектов. Вообще это получается у тех университетов, которые систематически предпринимают усилия в этом направлении. А те, кто просто живут на гарантированном бюджетном финансировании, даже не испытывают в этом потребности.
Для Европейского университета фонд целевого капитала — это финансовая основа, его проценты составляют до трети годового операционного бюджета. Мы активно взаимодействуем с крупными и средними компаниями, банками. Это только российские деньги. Наш эндаумент, благотворительность и исследовательские проекты — на самом деле и есть основные источники нашего финансирования, и лишь небольшая часть в бюджете — это плата за обучение. Все думают, что мы коммерческий вуз, но мы им не являемся. Общая сумма стипендий, которые мы платим обучающимся, значительно выше, чем суммарная плата за обучение, которую получает университет.
— Кто хочет, тот и может. У нас второй по величине эндаумент, по данным рейтинга. На первом месте — Сколтех. Третий — МГИМО, которому прекрасно удается наращивать фонд целевого капитала, у вуза много успешных выпускников. Высшая школа экономики, насколько я знаю, тоже активно привлекает корпоративное финансирование для развития своих центров и проектов. Вообще это получается у тех университетов, которые систематически предпринимают усилия в этом направлении. А те, кто просто живут на гарантированном бюджетном финансировании, даже не испытывают в этом потребности.
Для Европейского университета фонд целевого капитала — это финансовая основа, его проценты составляют до трети годового операционного бюджета. Мы активно взаимодействуем с крупными и средними компаниями, банками. Это только российские деньги. Наш эндаумент, благотворительность и исследовательские проекты — на самом деле и есть основные источники нашего финансирования, и лишь небольшая часть в бюджете — это плата за обучение. Все думают, что мы коммерческий вуз, но мы им не являемся. Общая сумма стипендий, которые мы платим обучающимся, значительно выше, чем суммарная плата за обучение, которую получает университет.
— Почему частные компании дают деньги университету?
— Потому что система управления университетом вызывает у них доверие. У нас активный, ответственный попечительский совет, который действительно работает. Его председатель — директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский. В совет входят люди с высочайшей репутацией и разными компетенциями, это и ученые, и предприниматели, и управленцы. Попечительский совет ищет и назначает ректора, дважды в год оценивает его работу, принимает финансовый отчет, участвует в стратегическом планировании и взаимодействии с донорами. Совет выступает гарантом того, что деньги, которые получает вуз, дадут именно тот результат, на который запрашиваются. И те, кто поддерживает университет или конкретные проекты, в курсе этих результатов.
— Потому что система управления университетом вызывает у них доверие. У нас активный, ответственный попечительский совет, который действительно работает. Его председатель — директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский. В совет входят люди с высочайшей репутацией и разными компетенциями, это и ученые, и предприниматели, и управленцы. Попечительский совет ищет и назначает ректора, дважды в год оценивает его работу, принимает финансовый отчет, участвует в стратегическом планировании и взаимодействии с донорами. Совет выступает гарантом того, что деньги, которые получает вуз, дадут именно тот результат, на который запрашиваются. И те, кто поддерживает университет или конкретные проекты, в курсе этих результатов.
— Вернемся к теме социогуманитарного знания, потому что в ней сейчас много актуальных вопросов. Один из них, вроде бы, простой, но явно требует обновленного ответа. Что считать грамотностью в 2025 году?
— К базовой грамотности, к которой раньше относилось умение читать, писать, считать и владеть базовой культурой, добавилось умение программировать, использовать информационные технологии, в том числе генеративные нейросети.
— К базовой грамотности, к которой раньше относилось умение читать, писать, считать и владеть базовой культурой, добавилось умение программировать, использовать информационные технологии, в том числе генеративные нейросети.
— А кого теперь считать хорошо образованным человеком?
— Хорошо образованный человек владеет культурным наследием своей цивилизации, разносторонне развит, знает литературу, историю, искусство. Мне кажется, в этой характеристике ничего не изменилось. Например, советские люди 1960-х годов были очень хорошо образованы и обладали прекрасным кругозором, независимо от того, были ли они техническими или гуманитарными специалистами. Другой вопрос — кому он сейчас нужен, хорошо образованный человек.
— Хорошо образованный человек владеет культурным наследием своей цивилизации, разносторонне развит, знает литературу, историю, искусство. Мне кажется, в этой характеристике ничего не изменилось. Например, советские люди 1960-х годов были очень хорошо образованы и обладали прекрасным кругозором, независимо от того, были ли они техническими или гуманитарными специалистами. Другой вопрос — кому он сейчас нужен, хорошо образованный человек.
— Раз использование генеративных нейросетей — новый базовый навык грамотного человека, то надо отметить, что для его освоения для рабочих целей все-таки необходимо овладеть ядром профессионального знания. А для этого нужно читать верифицированные источники, работать со сложными текстами, в том числе в библиотеке. Как ректор университета с известным издательством, как Вы считаете, каким образом этот навык поддерживать в вузах?
— Боюсь, это будет каста избранных, некий орден людей, которые ходят в публичную библиотеку, читают первоисточники и классические труды прошлого по философии, истории и знают их на том уровне, на котором всегда было принято это знать.
Мир идет по пути сокращения издержек. Любая продвинутая большая языковая модель выдаст вам по запросу краткое содержание «Левиафана» Томаса Гоббса.
Так вы узнаете основные идеи из этой большой книги, вообще говоря, — одной из самых значимых в истории политической философии. Вопрос в том, для чего вам это знание? Если для того, чтобы получить общее представление о содержании, как подобает культурному человеку, — это одно. Если же вы хотите глубже, более осмысленно понять это сочинение, то, конечно, придется читать первоисточник. Но в целом общая ценность такого знания сейчас снижается.
— Боюсь, это будет каста избранных, некий орден людей, которые ходят в публичную библиотеку, читают первоисточники и классические труды прошлого по философии, истории и знают их на том уровне, на котором всегда было принято это знать.
Мир идет по пути сокращения издержек. Любая продвинутая большая языковая модель выдаст вам по запросу краткое содержание «Левиафана» Томаса Гоббса.
Так вы узнаете основные идеи из этой большой книги, вообще говоря, — одной из самых значимых в истории политической философии. Вопрос в том, для чего вам это знание? Если для того, чтобы получить общее представление о содержании, как подобает культурному человеку, — это одно. Если же вы хотите глубже, более осмысленно понять это сочинение, то, конечно, придется читать первоисточник. Но в целом общая ценность такого знания сейчас снижается.
— А как должна система высшего образования реагировать на тренды? Задавать их или приспосабливаться? Как Европейский отвечает на эти вызовы?
— Это самый сложный вопрос. Главный вызов — это акселерация. Когда-то мир мало менялся, потом менялся, условно, каждые 50 лет, потом через каждые 10–15 лет, теперь мир меняется каждые 2–3 года и это не предел. При этом какие-то вещи не меняются вообще. Их надо не потерять. Консерватизм на этом, собственно, и делает акцент. Государства формируют базовую модель высшего образования в соответствии с национальной стратегией, без этого никак. Но эта модель должна оставлять пространства для экспериментов и быстрого реагирования на запросы рынка, отраслей, на смену приоритетов у нового поколения, которое все больше совмещает учебу с работой.
Многие вузы понимают рынок труда не хуже регулятора. Сейчас в сетях предлагается огромное количество коротких образовательных программ, они ориентированы на текущий спрос, даже на моду. Качество у них разное, но продаются отлично. Чем более жесткой будет система высшего образования, тем шире будет образовательный рынок за ее пределами. И вот здесь умная политика состоит в нахождении баланса между получением фундаментального образования и инновациями. А по поводу Европейского в этом контексте — мы приспосабливаемся, но у нас есть возможность экспериментировать и брать на себя некоторые риски в процессе создания новых программ и проектов, и если что-то принесет успех, то более крупные вузы смогут это масштабировать.
*KERR, CLARK. The Uses of the University. Harvard University Press, 2001. http://www.jstor.org/stable/j.ctt6wpqkr.
— Это самый сложный вопрос. Главный вызов — это акселерация. Когда-то мир мало менялся, потом менялся, условно, каждые 50 лет, потом через каждые 10–15 лет, теперь мир меняется каждые 2–3 года и это не предел. При этом какие-то вещи не меняются вообще. Их надо не потерять. Консерватизм на этом, собственно, и делает акцент. Государства формируют базовую модель высшего образования в соответствии с национальной стратегией, без этого никак. Но эта модель должна оставлять пространства для экспериментов и быстрого реагирования на запросы рынка, отраслей, на смену приоритетов у нового поколения, которое все больше совмещает учебу с работой.
Многие вузы понимают рынок труда не хуже регулятора. Сейчас в сетях предлагается огромное количество коротких образовательных программ, они ориентированы на текущий спрос, даже на моду. Качество у них разное, но продаются отлично. Чем более жесткой будет система высшего образования, тем шире будет образовательный рынок за ее пределами. И вот здесь умная политика состоит в нахождении баланса между получением фундаментального образования и инновациями. А по поводу Европейского в этом контексте — мы приспосабливаемся, но у нас есть возможность экспериментировать и брать на себя некоторые риски в процессе создания новых программ и проектов, и если что-то принесет успех, то более крупные вузы смогут это масштабировать.
*KERR, CLARK. The Uses of the University. Harvard University Press, 2001. http://www.jstor.org/stable/j.ctt6wpqkr.
16 сентября / 2025
Интервью провели: Александр Никифоров, Екатерина Позднякова
Текст подготовила: Екатерина Позднякова
Материал подготовлен редакцией издания «Ректор говорит!». При копировании ссылка на издание «Ректор говорит!» обязательна.
Текст подготовила: Екатерина Позднякова
Материал подготовлен редакцией издания «Ректор говорит!». При копировании ссылка на издание «Ректор говорит!» обязательна.
[ Рассылка ]
Каждую неделю — новый материал
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, сенсационных научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми узнать о ключевых изменениях в академической среде, сенсационных научных открытиях, образовательных трансформациях и опыте ведущих вузов.
Подписаться на рассылку
Подписывайтесь на рассылку, чтобы первыми получать актуальную информацию о высшем образовании от руководства учебных и научных организаций, экспертов в области высшего образования и представителей профильных министерств.